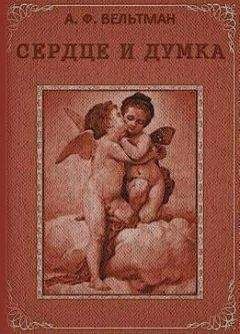— Что он говорит? Он говорит я не знаю что!
— Знаю, знаю что: надо ехать в Москву, надо там жениться… Москва запасна на невест… Надо Бржмитржицкому ехать в Москву!
В это время пронеслась мимо почтовая коляска.
— Ах! какой-то Адъютант!.. Ах, это он! он!.. Он, верно, едет в большой свет в Москву! Я не отстану от него!
Сорока запорхала вслед за коляской.
Быстро неслись кони: Адъютант ехал или по самонужнейшей казенной надобности, или по сердечной надобности, или убегал от сердечной тоски. «Пошел скорей!» — повторял он ямщику.
Сорока едва успевала порхать вслед за коляской. Версты, стоящие на дороге, слились в палисад, города и селения в одну длинную улицу.
Сорока утомилась, хотела присесть на дугу.
— Пш — ты, проклятая! — вскричал ямщик, хлопнув бичом. — Видишь привязалась! так и летит следом!
Сорока испугалась бича, отпорхнула от коляски, но не отстает от нее. Летит-летит и посмотрит на Адъютанта.
— Какой он грустной!..
— Ямщик! верно, у вас здесь много сорок? — спросил проезжий Адъютант.
— Избави бог сколько! Да добро бы простая птица, примером сказать, ворона; а эта не простая: всё проклятые оборотни. Посмотрели бы, ваше благородие, как соберется их где стая да начнут трескотать, так уж, словом, что говор! не просто кричат, а тоже речь ведут. У нас есть такие, что понимают их… говорят: страмно и стыдно сказать, что они трескочут… А вот в Москву ни одна не залетит: видишь, сказывают, заклял их святой Алексей…[29] Так уж, стало быть, наше благородие, в Москве и ни одной колдуньи нет?
Адъютант не отвечал на вопрос ямщика; но денщик не оставил без ответа такой важный вопрос.
— Статошное ли это дело, чтоб где не было колдуньи! И Москве есть и цыганки.
— Так, стало быть, во что ж они перекидываются?
— А про то их Старшой знает.
— Старшой? хм! вот что… по неспособности в сороку, чай, в ворону?..
— Пошел, пошел! — вскричал Адъютант.
Ямщик свистнул, приударил коней.
Станция за станцией, и — вот вдали загорелась глава Ивана Великого.
Не успела сорока взглянуть и подумать, не Москва ли но? — вдруг, чок! как будто об стену, так что в глазах потемнело. Развернулась еще, порхнула вперед за удаляющей коляской… чок-чок еще раз!.. Приподнялась повыше, опустилась пониже, рвется к Москве… Нет! ограда, да еще и не-видимая!
А коляска умчалась, пропала из глаз, только пыль крутится вдали.
— Ах! — чочокнула сорока. — Ах, стена! Что я буду делать! он уехал!
Села бедная сорока на перильцы мостика и не знает, что делать: хоть назад лететь.
А в это время шла девушка по дороге; девушка хоть куда: и кумашном сарафане, с коромыслицем на плече; на коромыслице висят кувшинчики с молоком. Идет и песню поет.
— Ах, какая счастливая! — подумала сорока, — в Моск-ну идет!.. Что бы мне на ее место…
— Ах!.. Ух!..
Смотрит… а на ней уже кумашный сарафан, и коромыслице на плечах, ноги сами в Москву идут, бегом бегут. Вот подходит девица к заставе.
— Стой! откуда?
— Из-под Киева.
— Так ты нездешняя? Э, сударыня моя!
— Послушай, мой любезный солдат!
— Нечего слушать! нет пропуску! а что у тебя в кувшинчиках-то?
— Молоко.
— Молоко? Как!
— Мой любезный солдат…
— Молоко! постой, голубушка!
— Мой миленький солдатик! — произнесла девушка с ужасам, сложив на землю коромысло с кувшинчиками и сложив на груди руки.
— Молоко! Держи ее, держи!
Девица как бросится бежать от часового вдоль улицы.
— Держи ее, держи! — кричат караульные солдаты, развязывая кувшинчики и пробуя, свежо ли молоко.
II
Без памяти бежит девица по улицам московским. Ей кажется, что со всех сторон кричат: держи ее, держи! Быстро бежит, так быстро, что не видать ее, точно как тень от маленького пролетающего облачка в день ясный, солнечный.
Вот очутилась она посреди улицы, полной экипажей; посреди той улицы, которую невозможно описать; где вчера не похоже на сегодня, где завтра будет все ново: вывески и товары, наружность и внутренность, имена и названья, цвет и форма; вместо единообразия пестрота, вместо длины ширина, вместо мериноса тибет и терно, вместо манто — клок,[30] вместо N — si devant N,[31] вместо лавки магазин, вместо магазина калейдоскоп… Посреди той улицы, которая со временем обратится в картинную галерею, в депо[32] всех родов одежд женских и мужских, телесных и духовных; в депо всех родов украшений: украшений ума и глупости, красоты и безобразия, юности и дряхлости, украшений всего, что живет между радостью и горем, между раем и адом, между всем и ничем; где все будет предметом рассеяния и любопытства; где науки и искусства обратятся в приманку и соблазн; где импровизаторы будут приглашать проходящих сонетами и похвальными одами товарам; где проезжие музыканты будут давать для посетителей-покупщиков концерты без платы; где вместо сидельцев будут очаровательные девы, певицы, уроды, допотопные животные, Сиамские близнецы,[33] женщины-великаны, полосатые шуты, жители Океании и Альбиносы в своих народных костюмах, или какой-нибудь механический человек, сбирающий плату за товары, — только без сдачи; где в придачу к купленным нарядам и вещам, будут выдаваться gratis[34] Альманахи с гравированными на стали картинами, Альманахи, исполненные легкого чтения, стихов благозвучных и повестей, раскрывающих внутренний мир человека.
Невольное удивление остановило девицу; она не знает, на что ей смотреть, так любопытны кажутся ей все предметы.
Какое богатство, какая роскошь! Сколько дам в цветах и в шелку!.. Все стены в картинах!.. А в окнах какие вещи!.. Ах, ленты!.. наряды!.. шляпки!.. Вот, вот где живет большой свет… Ай!
Подле девицы прошел точно такой же солдат, какой напугал ее у заставы; она хотела опять бежать, — а навстречу еще такой же солдат… «Ай!» — вскрикнула опять девица и заметалась во все стороны… видит, идет мимо ее молоденькая девушка в манто из drap-royal,[35] с блестящими цветами, в дымковой роскошной шляпке, обшитой рюшем из шелкового тюля.
— Ах, если б я была на ее месте! — подумала она. Смотрит… Ух!.. точно как будто перелились все ее чувства из сарафана в манто из drap-royal и на душе стало легко.
— Что с тобой, Лели? — спросила дама, шедшая подле молоденькой девушки.
— Ох! точно как огонь разлился по мне, сердце так и бьется! — отвечала живая и рассеянная Любовь, Любенька или Лели, по наречию семейному, приспособленному к французскому языку. — Да это ничего, — продолжала Лели, — пройдет… Зайдемте, maman, в этот магазин.
— Спроси, мой друг, стакан холодной воды: это освежит тебя.
— Нет, нет, не нужно!.. Ах, как это мило! это совершенно в новом вкусе!.. Это мы купим?.. Теперь зайдемте к M-me Megron.
От Мегрон к Мене, от Мене к Цихлеру, от Цихлера… куда бы?
Накуплено много, уложено в карету.
Длинный лакей в пестром эксельбанте захлопнул дверцы, закричал во все горло: пошел домой! — уселся сам в лакейских креслах на запятках, подбоченился. Кучер хлопнул по лошадям вожжами; форейтор взвизгнул: пади, пади! — и — карета понеслась, загремела по выбитой мостовой. Приехали.
— Как хорошо!.. как мило!.. Очень мило! Я еще в магазине говорила, что очень мило! — твердит Лели, вертясь перед зеркалом. То развернет кусок материи и приложит вместо фартука; то примеряет фермуар[36] или шляпку, или кокетку, или цветную гирлянду, и — в радости, с лорнетом в руках, танцует перед трюмо, напевая французскую кадриль — попурри из Роберта, Фенеллы, Дон-Жуана и «Чем тебя я огорчила».[37]
— Maman! — продолжает Лели, — мне кажется, что я буду конфузиться в первый раз на балу, — как вы думаете?
— Конфузиться! это глупо: как будто ты в первый раз едешь на бал.
— Не в первый раз… но до сих пор на меня смотрели как на ребенка, водили с распущенными детскими локонами, одевали только пристойно!.. Но теперь другое дело, совсем не то, что прежде, Maman, не правда ли? Мне кажется, что я вдруг переменилась…
— Воображение, милая: одежда не изменяет человека!
— Не изменяет, хм! — и Лели насмешливо улыбнулась на слова матери.
День прошел в сборах. В 10 часов вечера кончилась прическа головы, в 12-ть Лели разряжена, обвешана блеском, как Индейское божество, и вот она едет… едет на бал — какое блаженство!
III
Теперь не то, что прежде. Теперь все хуже! — говорят старики; теперь все лучше! — говорит молодежь. Кто ж не пристрастен к своему времени?.. Кто любил свое время, тот поневоле помнит его, грустит, что пережил его, жалеет, как об друге сердца, как о красавице… хороша была она в фижмах, в роброне, в громадной напудренной прическе, набеленная и нарумяненная; мерно щелкали ее каблучки о гладкий белый пол, который мыли каждую субботу, или о мозаиковый паркет… Вот китайский фарфор, чашки в виде плодов, обложенных листьями, в виде розы без шипов… из этих чашек пила она чай, — какой чай! теперь не купишь за сто рублей фунт!.. Вот круглое зеркало в бронзовой раме в виде ленточки с узелком… Вот часы с курантами, которые он подарил ей: в них и кукушки, и бой четвертей, и солнце посходит, и птички перепархивают с ветки на ветку, чудно моют, на голос: «Я в пустыню удаляюсь от прекрасных здешних мест»[38]; и пастушок наигрывает на дудочке: «mes chers brebis»[39], и пастушка подле приплясывает менует, и собачка метится, и барашек прыгает в такту. Где теперь такие часы, кроме меняльной лавки?.. А плетеный столик, соломенный с голик и вся мебель, хитрой работы, из красного, черного, пальмового, карельского, сандального и разного дерева, с бронзой, с резьбой, с узорами, с позолотой, с чернью, с насечками?.. Например, ее ларчик, облитый эмалью и окованный железом: в нем лежали сотни перстней и колец, и столько же серег, и столько же ниток жемчугу. Например, канапе, кожаное, обитое в узор блестящими пуклыми гвоздиками; на нем так ловко было сидеть с нею рядом, — грустно смотреть па эту — нынешнюю — мебель, на которой нельзя усесться порядком и сблизиться с кем-нибудь по душе!.. А золоченая резная карета, как дом, просторная, в которой ему и ей не тесно было сидеть; а цуг в шорах,[40] на запятках два гайдука,[41] на козлах кучер, наряженный гусаром, вооруженный арапником!.. Чета ли эта карета теперешним, тесным, извозчичьим, с наемными клячами, возкам, перегороженным надвое взаимной холодностью и равнодушием… Бывало, селятся н доме навек; а теперь и у себя, как в незваных гостях… Жизнь не впрок идет!