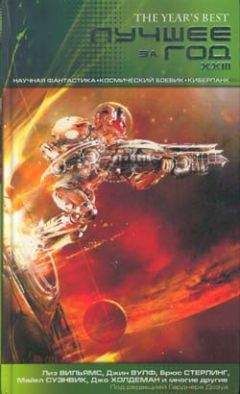Но я могу ошибаться.
Я рад, что не мне это решать.
— Сними вуаль, — внезапно приказывает Юинь.
— Что?
— Ты не Эзхелер, — говорит она. — Ты даже не женщина. Я хочу видеть, с кем я говорю.
Конечно, это не так просто. Мне нужно снять бурку, вытащить руки из рукавов и размотать ткань, укрывающую голову. И хотя блуза, штаны и сапоги по-прежнему на мне, полностью сняв бурку, превратившуюся в кучку тускло-лиловой материи рядом со мной, я почувствовал себя раздетым. Я вдруг понимаю, почему женщины Ипполиты продолжают носить хиджаб, почему вызывали такое возмущение попытки светских правительств XIII и XIV веков насильно запретить ношение вуали.
Я чувствую себя голым.
И, что еще более неприятно, я снова чувствую себя Сашей Рузалевым.
Я вижу, что Ливэн изучает меня, взгляд ее задерживается на моих руках, лице, горле. В этом взгляде нет ничего интимного или эротического, только сосредоточенное внимание, и внезапно я понимаю, что это: это сосредоточенное, холодное внимание натуралиста, пытающегося зафиксировать в памяти внешность представителя новой породы, которого он больше никогда не увидит.
Юинь тоже рассматривает меня.
— Моложе, чем я думала, — говорит она. — И хорошенький. — Это звучит скорее как обвинение, чем как комплимент. — Сначала я решила, что ты прилетел сюда, чтобы наяву пережить какую-то колониальную гаремную фантазию, но теперь я так не думаю. — После паузы она спрашивает: — Гей?
— Да. И прежде чем ты сформулируешь следующую гипотезу, скажу, что я здесь не потому, что думаю, будто Лихорадка Амазонок превратит меня в женщину.
Юинь пожимает плечами:
— Но некоторые прилетают сюда именно за этим. Один раз с тех пор, как я появилась здесь, и в архивах Этнологической службы имеются данные о двух-трех подобных случаях. Мистики, которые не верили в генную терапию и реконструктивную хирургию. Лихорадка убила их так же, как и всех остальных мужчин. Но ты ведь не мистик, так?
Теперь моя очередь пожимать плечами.
— Я естествоиспытатель, получил образование в Халифате. Иногда трудно провести границу.
— По-моему, я догадываюсь, — говорит Ливэн на своем плохом арабском. — Ты думаешь, что нашел лекарство от Лихорадки Амазонок.
— Более или менее, — соглашаюсь я.
— Такое тоже случается, — замечает Юинь. — Примерно каждые десять лет Республика сбрасывает автоматическую лабораторию с полной клеткой песчанок-самцов, чтобы испытать новейшее медицинское чудо.
— Лихорадка уничтожает и их, — говорит Ливэн.
— Это происходит потому, что Лихорадка не медицинская проблема, — отвечаю я. — Это просто симптом отклонения от причинно-следственной цепочки.
— Ты говоришь так, словно это имеет смысл, — произносит Ливэн.
— Для меня имеет. — Я отпиваю глоток чаю, а затем, когда ставлю чашку на стол, мне на ум приходит сравнение. — Смотрите, — говорю я, указывая на чашку. — Консилиум — я хочу сказать, Феноменологическая служба, — они считают, что Вселенная подобна воде в этой чашке. Листья — причинно-следственная аномалия Ипполиты. А Лихорадка — то, что образуется, когда вы кладете листья в воду; Лихорадка — это чай.
— И они установили блокаду, чтобы чай не диффундировал дальше. — Ливэн поднимает свою чашку и рассматривает ее со всех сторон. — Ты прилетел сюда, чтобы вытащить листья.
Я собираюсь ответить, но Юинь перебивает меня. Она смотрит мне прямо в глаза.
— Если бы ты мог излечить Лихорадку, — говорит она, — ты бы разрушил основы общественного устройства Ипполиты. Не просто общество, но всю экологию. На этой планете есть лишь один организм мужского пола, и он сидит на моем диване.
— Я сказал, что так считает Феноменологическая служба. Я не сказал, что я так считаю.
— Так ты не из ФС?
— Я вообще не имею отношения к Консилиуму. Меня финансирует Министерство иррациональных явлений лондонского Халифата, но в своих действиях я самостоятелен.
Юинь смотрит на меня скептически:
— Тогда что тебе здесь нужно? Я вздыхаю:
— Именно здесь метафоры бессильны. Пусть Вселенная — это чашка воды. Возможно, аномалия подобна щепотке чайных листьев — в этом случае Лихорадка, диффузия, необратима. Никто не знает, как ликвидировать энтропию на этом уровне. И если ей не воспрепятствовать, она будет распространяться дальше. С другой стороны, возможно, аномалия подобна камешку, брошенному в чашку. Возможно, Лихорадка всего лишь рябь на поверхности воды, в которой рассеивается энергия падения. Когда энергия рассеется, рябь исчезнет.
— И в этом случае мы все равно обречены, — говорит Юинь. — Но я в это не верю.
— Скажи мне, — спрашиваю я, — спонтанное плодородие почвы на землях Эзхелер — оно усиливается или снижается?
— Об этом нет достоверных данных, — отвечает Юинь, и заметно, что она обеспокоена. — По отдельным сообщениям…
— По отдельным сообщениям, оно снижается. Верно? Она отводит взгляд.
— Возможно.
— Послушайте, — говорю я. — Я здесь не для того, чтобы уничтожить ваше общество. Я здесь для того, чтобы освободить его. Ты сказала, что не хочешь, чтобы твоя дочь выросла в тюрьме.
— Мы не хотим также, чтобы она выросла и стала женой какого-то мужчины, — возражает Юинь.
Я качаю головой:
— Дело не только в вас. Ипполита лишь отдельная планета. А там живет полтриллиона женщин. — Я делаю жест в сторону потолка, пытаясь объять весь Полихроникон. — Вы думаете, они не заслуживают шанса получить то, чем обладаете вы?
По лицу Ливэн я вижу, что она начинает понимать.
— Ты не пытаешься искоренить Лихорадку Амазонок, — говорит она, — ты хочешь контролировать ее.
— Я все еще не понимаю, — произносит Юинь.
— Я же сказал вам, что здесь метафоры бессильны, — повторяю я. — Я не могу описать это при помощи чайных чашек.
— Тогда без чашек, — говорит Ливэн.
— Без чашек? — Я делаю глубокий вдох. — Я надеюсь использовать математические техники Халифата, чтобы установить метастабильное равновесие, которое позволит выпуклым областям с реальными и виртуальными предысториями сосуществовать в четырехмерном пространстве-времени, оставаясь топологически различными и смежными в пятимерном пространстве.
Юинь делает большие глаза.
— Не важно, что ты делаешь, — выговаривает она. — Что это будет означать? Для нас?
— Если у меня получится, то это будет означать, что ваша дочь сможет выбирать, как ей жить. Ваша дочь, — я снова делаю жест в пространство, — и дети остальных людей.
— А почему мы должны тебе верить?
— Какая разница, поверите вы мне или нет? — пожимаю я плечами. — В любом случае завтра я вас покину. Я направляюсь на север, в Эретею. — Я отхлебываю чай. — Если вы хотите меня остановить, уверен, это будет нетрудно.
Ливэн что-то говорит Юинь на тиешанском наречии. Разговоры на китайском всегда кажутся мне похожими на спор, но в ответе Юинь я различаю не просто несогласие, но презрение — и в то же время что-то вроде уступки.
Затем она поднимается и идет наверх.
— Сегодня можешь поспать на диване, — обращается ко мне Ливэн. — Я принесу тебе простыни. Баня снаружи, позади дома, если хочешь помыться.
— Спасибо.
— Я хочу извиниться за Юинь, — говорит она, убирая со стола. — Ты должен понять, что для нее Ипполита не просто место, где мы, женщины, можем жить без мужчин. Для нее важно также, что мужчины не могут прийти на Ипполиту. — Она бросает взгляд на кучку ткани рядом со мной и улыбается. — Для Юинь Лихорадка — это самый лучший хиджаб.
— А для тебя? — спрашиваю я. Она пожимает плечами:
— Юинь пришла сюда по своей воле. А что до меня, я здесь счастлива, но ведь я здесь родилась. Если бы я родилась в другом месте, я, наверное, была бы счастлива там.
Она замолкает на минуту, словно размышляя, говорить ли дальше.
— Мне кажется, ты не понимаешь, во что ввязываешься, — начинает она.
— Что ты имеешь в виду?
— Ты прав, Лихорадка всего лишь побочный эффект какого-то отклонения от обычного хода вещей. Каково бы ни было ее происхождение, центр ее там, в Эретее.
— Именно поэтому я и направляюсь туда, — объясняю я. Ливэн вздыхает, опускает взгляд и принимается рисовать на скатерти невидимые узоры.
— Я была там три раза, — говорит она. — Не в самом центре. — Она смотрит на меня. — Как объяснить это? Помнишь могилы, которые ты видел по пути в город, в южной части острова, Кладбище Мужчин?
Я киваю.
— Ты найдешь такие Кладбища Мужчин, такие могилы по всему югу. Но не в Эретее. В Мирине[226] — это первый большой город, если ехать вверх по реке, — в Мирине есть только кенотаф.[227] Никто не знает, что произошло с телами. В Фемискире даже этого нет; они говорят о мужчинах как о чем-то отвлеченном или как о мифических существах.