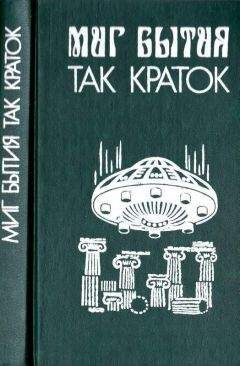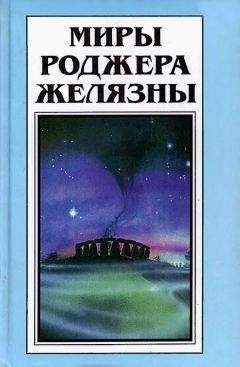Я закусил губу.
— Просто обязан состариться, раньше или позже.
— А если позже? Я люблю тебя. Мне не хотелось бы состариться раньше, чем ты.
— Ты доживешь до ста пятидесяти. Есть ведь курс Спрайта — Сэмсера. Ты его пройдешь.
— Но он не сохранит меня молодой — как тебя.
— На самом-то деле я не молод. Я родился стариком.
Не сработало и это. Она начала плакать.
— До этого еще годы и годы, — попытался утешить я ее. — Кто знает, что может случиться за это время?
Это заставило ее заплакать еще горше.
Я всегда был импульсивным. Соображаю я обычно весьма неплохо, но, кажется, всегда занимаюсь этим после того, как скажу свое, а к этому времени мною обычно бывает уничтожена всякая возможность дальнейшего продолжения разговора.
Это как раз одна из причин того, что я держу штат компетентных сотрудников, хорошую рацию и провожу большую часть времени вдали от дел. Однако некоторые вещи попросту никак нельзя передоверить кому бы то ни было. Поэтому я сказал:
— Слушай, в тебе тоже есть налет Горячего Материала. Мне потребовалось сорок лет, чтобы понять, что я не сорокалетний. Возможно, ты такая же. А я просто соседский парнишка.
— Ты знаешь о каких-нибудь случаях наподобие твоего?
— Ну…
— Нет, не знаешь.
— Да, не знаю.
Помнится, мне тогда больше всего хотелось снова оказаться на борту своего корабля — не большого огнехода, а всего лишь на борту старой калоши «Золотая канитель». Мне хотелось снова войти в порт и увидеть там Кассандру, в тот первый сияющий раз, и иметь возможность начать все заново. И или сразу же рассказать ей обо всем, или опять подойти к моменту расставания, помалкивая о своем возрасте. Это была приятная мечта, но, черт побери, медовый месяц давно уже закончился.
Я ждал, пока она перестанет плакать, и снова почувствовал на себе ее взгляд.
— Ну? — спросил я наконец, выждав еще немного.
— Спасибо, все в порядке.
Я взял ее безвольную ладонь в свою руку и поднес к губам.
— С перстами пурпурными… — выдохнул я, а она сказала:
— Возможно, это и не плохая мысль — твой отъезд. Во всяком случае на время…
Снова налетел несущий влагу холодный бриз, обдавая нас мурашками и заставляя дрожать наши руки — то ли ее, то ли мои — не уверен, чьи именно. Листья он тоже заставил задрожать, и они посыпались нам на головы.
— Не приврал ли ты насчет своего возраста? — спросила она. — Хоть самую капельку?
Судя по ее тону, с моей стороны самым мудрым было согласиться, что я и сделал, совершенно правдиво ответив:
— Да.
Она улыбнулась в ответ, несколько успокоенная насчет моей человеческой природы.
Ха!
Так мы и сидели, держась за руки и наблюдая, как прорастает утро. Через некоторое время она принялась что-то негромко напевать. Пела она печальную песню многовековой давности — балладу, рассказывающую историю молодого борца по имени Фемокл, борца, не побежденного никем и никогда. Однажды он возомнил себя величайшим борцом в мире. И, наконец, принялся вызывать на единоборство соперников, забравшись на вершину горы. А так как вершина находилась в непосредственной близости от обители богов, те среагировали быстро: на следующий же день в город приехал хромоногий мальчик-калека верхом на бронированном огромном диком псе.
Они боролись три дня и три ночи, Фемокл и мальчик, и на четвертый день мальчик переломил ему хребет. И там, где пролилась кровь гордеца, осмелившегося бросить вызов богам, вырос, как называет его Эммет, стрижфлер? — цветок-кровопийца без корней, ползающий по ночам в поисках пропавшей души павшего чемпиона в крови своих жертв. Но душа Фемокла давно оставила Землю, и поэтому цветок обречен вечно ползать и искать ее.
Попроще, чем у Эсхила, но, впрочем, и мы, люди, попроще, чем были когда-то, особенно жители Материка. Ну, а кроме того, на самом деле все произошло не совсем так, вернее — совсем не так.
— Почему ты плачешь? — неожиданно спросила она.
— Я думаю об изображении на щите Ахилла, — ответил я. — И о том, как это ужасно — быть образованным зверем… И я вовсе не плачу. На меня капает с листьев.
— Я сварю еще кофе.
Пока Кассандра этим занималась, я сполоснул чашки и попросил ее позаботиться о «Канители», пока я в отъезде, и отремонтировать судно в сухом доке — на случай, если оно мне вдруг срочно понадобится. Что она и обещала в точности исполнить.
Солнце упрямо карабкалось по небу все выше и выше, и через некоторое время до нас донеслись удары молотка со двора старого Альдониса, гробовщика. Ожили цикламены, и ветер донес их дивный аромат. Высоко в небе, словно мрачное знамение, спланировал в сторону материка пауконетопырь. У меня руки чесались сжать рукоять пистолета 36-го калибра, наделать шума и посмотреть, как тот шмякнется. Однако единственное известное мне поблизости огнестрельное оружие находилось на борту «Канители», и поэтому мне оставалось всего лишь смотреть, как тварь исчезает вдали.
— Говорят, они даже не с Земли, — сказала она, тоже наблюдая за его полетом, — и что их завезли сюда с Титана, для зоопарков и тому подобного…
— Истинно так.
— …И что они вырвались на свободу во время Трех Дней и одичали, и что здесь они прижились и вырастают крупнее, чем даже на своей родной планете.
— Как-то раз мне довелось видеть экземпляр с размахом крыльев тридцать два фута.
— Мой внучатый дядя однажды рассказывал мне историю, слышанную им в Афинах, — вспомнила она, — о человеке, убившем пауконетопыря без всякого оружия. Тот унес его с причала в Пирее, и человек сломал ему шею голыми руками.
Они рухнули в залив с высоты в пятьдесят футов. И этот человек остался жив.
— Это было давным-давно, — припомнил я. — Еще до того, как Управление начало компанию по истреблению этих тварей. В те дни их водилось намного больше, да и вели они себя посмелее. Теперь-то они держатся от городов подальше.
— Насколько я помню ту историю, того человека звали Константином. Уж не ты ли это был?
— Его фамилия была Карагиозис.
— Ты тоже Карагиозис?
— Если тебе так нравится. А что?
— А то, что позже он помог основать в Афинах Возвращенческий Радпол, а у тебя очень сильные руки.
— Ты возвращенка?
— Да. А ты?
— Я работаю на Управление. У меня нет никаких политических пристрастий.
— А вот Карагиозис взрывал веганские курорты.
— Это точно.
— Ты сожалеешь, что он делал это?
— Нет.
— Я действительно знаю о тебе очень немногое, не так ли?
— Ты узнаешь обо мне что угодно. Только спроси. На самом деле я крайне прост… А вот и мое аэротакси.
— Я ничего не слышу.
— Сейчас услышишь.
Миг спустя оно скользнуло с небес к Косу, наводясь на маяк, установленный мной в конце патио. Я встал и помог ей подняться на ноги, когда оно прожужжало, снижаясь, — «Рэдсон Скиммер», прозрачная двадцатифутовая скорлупка, отражающая свет, с плоским брюхом и обтекаемая.
— Ты не хочешь что-нибудь взять с собой? — спросила она.
— Ты же знаешь что, но не могу.
Скиммер приземлился, и его стенка распахнулась. Пилот в очках-поляроидах повернул голову.
— У меня такое ощущение, — сказала она, — что ты летишь навстречу какой-то опасности.
— Сомневаюсь, Кассандра. До свидания.
— До свидания, мой калликанзар.
Я забрался в скиммер и прышул в небо, вознеся молитву Афродите. Внизу махала рукой Кассандра. Позади солнце стягивало свою сеть света. Мы мчались на запад.
В этом месте моего повествования следовало бы сделать плавный переход к другим событиям, но — увы…
От Коса до Порт-о-Пренса было четыре часа лета — четыре часа серой воды, бледных звезд и моей злости. Глядя на разноцветные огоньки…
* * *
Народу в зале было как грязи, большая тропическая луна сияла, готовая лопнуть, а видел я и то и другое, потому что сумел, наконец, выманить Эллен Эммет на балкон, двери которого не закрывались, заклиненные магнитами.
— Снова вернулся из царства мертвых, — приветствовала она меня, слегка улыбаясь. — Исчез почти на год и не прислал даже открытку с Цейлона, типа «добрался хорошо».
— Ты скучала?
— Могла бы и заскучать.
Она была маленькой и, подобно всем, кто ненавидел день, молочно-белой. Мне она напоминала сложную заводную куклу с неисправным механизмом — холодная грация и склонность пинать людей под коленки, когда те меньше всего этого ожидают.
Эллен обладала копной оранжево-шатеновых волос, свитых в гордиев узел прически, который, на вид, невозможно было развязать. Цвет ее глаз, какой бы она ни выбрала, чтобы сделать приятное избранному ею в тот день божеству, я теперь забыл, но где-то глубоко-преглубоко внутри они отливали голубым. Что там она ни носила, оно выглядело коричнево-зеленым, и материи с лихвой хватило, чтобы обернуть ее пару раз, уподобив бесформенной сигаре. Это было либо прихотью костюмера (если у нее когда-либо таковой имелся), либо попыткой скрыть очередную беременность, в чем я весьма сомневался.