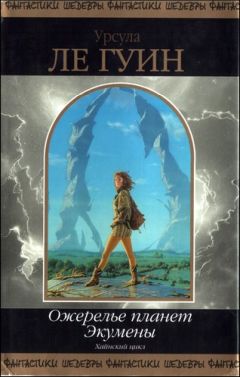Мы заржали как кони. Хотя точнее было бы сказать — запищали как крысы. Мы пищали и не могли остановиться. И наши слипающиеся гортани вибрировали как ненормальные, посылая в окружающее пространство какофонию несуразных звуков.
Пару недель ничего не происходило. На каждом островке стабильности мы получали подробные указания относительно наших действий. В интонации этих умников всё чаще стало слышаться равнодушие. Они смотрели на нас с удивлением исследователей, обнаруживших нечто парадоксальное. И когда один из этих ублюдков хихикнул, глядя на Трошева, Мейтао взорвался:
— Вы не представляете, что значит чувствовать то, что чувствуем мы, — он пялился подслеповатыми глазами на человеческие контуры на экране, и остатки его голоса срывались в неразборчивый писк. — Вы должны нас вернуть! Слышите? Прошло уже 180 точек перехода, а выхода нет! Возможно, вы ошиблись с расчётами? Сколько ещё нам скитаться?
Они ответили, что всё идёт по плану. И ошибки быть не может. Но я уже тогда понял, что их больше не интересует перемещение. Их интересуем мы. То, как действует внепространство на живые организмы. Их хвалёные вычислительные системы были ещё не в состоянии высчитать энергию субатомных частиц в каждую единицу времени. Про анализ скорости каждой из них я вообще молчу. Скакать по взятым приблизительно координатам в поисках выброса энергии, способной переместить нас сквозь пространственно-временные континуумы, было напрасным делом. Но мы скакали. Точка за точкой. Расчёт за расчётом. Мы выполняли свой долг, который был уже никому не нужен.
Единственным, кто сочувствовал нам, был Карл Лишнихт. В те короткие минуты, когда он деликатно отодвигая очередных вахтенных пробивался к монитору связи, мы получали всю необходимую информацию. Лишнихт как мог пытался объяснить все эти странные процессы, и как ни странно, мы его почти понимали. Препараты, которые он советовал принимать, иногда действовали. Пусть не надолго, но это облегчало наше жалкое существование.
Лишнихт всегда задавал уйму вопросов. Его интересовало всё, что мы чувствуем. Он требовал всех подробностей. Он искренне желал найти ответ. Говорил нам, что главное — уловить нечто на нижнем уровне изменений, а потом…
Что потом? Потом ушёл Кюлье.
На столе перед ним стояла видеорамка со сменяющими друг друга образами его жены — Ванессы. Видел ли он эти снимки? Думаю, что уже нет. Мелькающие цветные пятна — вот, что видели его глаза. Но его мозг видел Ванессу. Её голубые глаза с пышными ресницами, волосы, ниспадающие струящимся водопадом, плавные линии её красивого лица. Кюлье гордился своей женой. Будет ли она гордиться им? Вряд ли. Надеюсь, у умников из Большой Комиссии хватит ума не демонстрировать наш изменившийся облик родственникам или новостным каналам. Тогда у Ванессы останется привычный образ её мужа — всегда серьёзного, задумчивого, с прищуренным взглядом добрых глаз. Если же нет, тогда мне жаль эту женщину, потому что она уже никогда не забудет вид этого мерзкого существа, каким стал её супруг.
Кюлье был отличным химиком и отличным кулинаром. В последний день своего существования он совместил оба своих таланта. Что он там намешал, осталось для нас загадкой, но, думаю, он ушёл легко.
К тому времени мы преодолели 191 точку перехода, после которой дегенеративные процессы ускорились.
Старик Лихништ изменился. Вернее, изменился его голос: он стал каким-то скрипучим, сдавленным. Или, может быть, мы слышали его таким? В любом случае растерянность чувствовалась. Последнее наше с ним общение длилось особенно долго. Он объяснял об изменении наших генетических программ при удалении от исходных координат, о перераспределении энергии клеток в более необходимые органы наших организмов.
— Эволюция в переходах стала очень умной и быстрой, — скрипел он. — Такой быстрой и умной, что мы не успеваем за ней.
Сначала казалось, что изменения носят случайный характер и мутации хаотичны. Но затем они пришли к выводу, что имеется точное направление.
— Ваши хромосомы не ломаются, они перестраиваются. Перестраиваются целенаправленно и уверенно, — говорил профессор. — Ферменты-репаразы, предназначенные природой для удаления повреждённого куска ДНК, почему-то прекратили свою основную работу. Напротив, они стали ярыми помощниками процессам дегенерации.
Виной всему, как предполагал Лишнихт, является вид какого-то неизвестного пока излучения, которое отсутствует в стабильном мире.
Под конец своего доклада он попытался нас обнадёжить, сказав, что рассматривается вопрос нашего возвращения, и благодаря новейшим разработкам в нанопротезировании есть шанс, что нас вылечат.
Вылечат? От чего? От слишком рациональной структуры наших изменяющихся оболочек?
Сейчас мне кажется это смешным. Но тогда он поселил в нас надежду. Мы радовались его словам как дети. Мы ползали по обшивке, наматывая круги, и верещали. Чувство единения с тем родным миром, который заботится о нас, переполняло измотанные души.
По словам профессора, результаты совещания должны были поступить завтра вместе с координатами выхода на точку исхода. Нейтринные реакторы уже подготавливаются к возможному запуску.
Но между сейчас и завтра был ещё 192-й переход. Очередной переход. Обычный переход. Всего лишь очередной, обычный переход, чтоб его.
«Утром всё изменится, — думал я. — Всё будет хорошо, как прежде. Нас не бросят. Да, ресурсы на то, чтобы вытащить горстку выродков из этого небытия — колоссальны. Но разве цена жизни не превыше всего?
В ту ночь мне снились стрекозы. Пруд, заросший ряской, и много-много стрекоз. Это был последний сон, который я видел.
Но наутро мы уже не смогли узнать никаких новостей из нашего мира. Когда-то нашего. Я уже точно не мог. Мир погрузился для меня в тишину. Сегодня я уже привык к этому звенящему безмолвию, но тогда…
Если бы я мог ввести имя следующего островка стабильности, я назвал бы его «Островком невозврата». В тот день я понял, что возврата к прошлому нет. Что я уже не принадлежу тому миру. Миру бесконечных цветов и красок. Миру оранжевого солнца и зелёной травы, голубого океана и сверкающего белизной снега. Сейчас бы я наслаждался даже темнотой глубоких пещер. А пение птиц, шорох листвы, музыка, голос женщины…
Всего этого нет. А может, это всё было лишь плодом моего разума? Сколько времени прошло? Годы? Десятки лет? Может, сотни?
Дня через три после сто девяносто второго, проползая по рубке управления, я нащупал мордой что-то холодное и упругое. Это был Тористон. Холодный, как кусок льда. Я тыкался своим носовым провалом, или что там у меня было, в его безжизненное тело снова и снова, стараясь расшевелить его.
— Майкл, дружище, ты что? Я один спячу совсем!
Я рыдал, я выл, но слёз не было, а из звуков, что я мог издавать, осталось только тихое сопение и шебуршание по полу.
Я несколько дней катил его к выброске. Ближе к концу он стал совсем сухой, лёгкий. Правда, спуск мне произвести не удалось. И Тористон остался лежать там, у бортика первичного люка. Он и теперь там лежит. И мне не так одиноко, зная это.
Мейтао, помню, сказал как-то:
— Мы должны выдержать всё! Это путь воина! Это наш путь.
И он доказывал это до последнего, пока не напоролся брюхом на кромку острого, как лезвие, листа обшивки в пищеблоке.
Представляю, что ему стоило отвинтить болты и пригнуть угол упругого листа.
Он ушёл достойно. Так, как принято у них. Сейчас он беседует с духами предков.
Помню, дед всегда учил меня, что русские не сдаются. Не сдаются даже в самых трудных ситуациях. Он не знал о син-переходах. Я улыбаюсь. Внутренне, конечно. Я часто вспоминаю прошлое. Выходит, память — необходимый элемент для существования. Ведь она не исчезла. Не пропала в этой безумной перестройке фенотипов и генотипов. Моя память стала моими глазами, моими ушами, моей кожей, нервами, всем!
Короче, я не сдался. И уже не смогу сдаться! Я не успел, когда была последняя возможность вынюхать какую-нибудь гадость в химической лаборатории или, запутавшись в кабелях рубки управления, перекрыть себе кислород. А сейчас? Нужен ли мне кислород? Думаю, что нет. Я не знаю, что представляю из себя. Я даже не могу себе это представить, а ведь у меня появилась отличная фантазия. Я описываю всё ярко, с аллегориями и сравнениями, как в моих любимых текстах, что я, загружая в книгу, читал взахлёб. Моя исцарапанная, с многочисленными сколами книга уже закончила свой электронный век на свалке. А я нет. Я ещё живу.
Знают ли они, что я жив? Что я мыслю?
Я ведь находился у монитора связи тогда, когда всё ушло.
Я и сейчас должен там сидеть. Или лежать. В общем, быть.
Что видят они по другую сторону мира? Клочок материи? Невообразимый субстрат переплетающихся, собранных в клубок нейронных нитей? Или… Может быть, эволюция подошла к своей заключительной, триумфальной части. И я не являюсь более материей. Я чистый разум. Чистейший по своей новой природе. Ничего лишнего, ничего забирающего драгоценную энергию. Только мысль. И ещё память. Я оглядываюсь назад, и она захлёстывает меня гигантской океанской волной, необъятным циклоном, опоясанным свинцовыми тучами, невозможной снежной массой спускающейся лавиной, формирующейся из космической пыли галактикой…