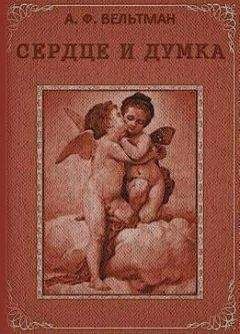— Говорит, пожар…
— Пожар! — вскричала Зоя.
— Пожар! — повторил Городничий, вскочив с места и выбегая в переднюю.
Зоя также вышла вслед за ним.
— Из трубы выкинуло, крыша загорелась, — сказал Хожалый.
— Дежурный там? — спросил Городничий.
— Там, ваше высокоблагородие.
— Хорошо, ступай!.. Донеси мне, если окажется опасным, — сказал Городничий.
— Где пожар? — спросила Зоя.
— Кухня занялась у Вернецкого господина.
— Вернецкого! — вскричал Городничий.
— Команда поехала туда, а я поскакал искать ваше высокоблагородие.
— Ах, боже мой, где моя шляпа? — повторял Городничий, бросаясь во все стороны, — где она?.. Дрожки мои здесь?
— Никак нет-с! — отвечал слуга.
— Ты верхом?.. у Вернецких… Хожалый!
— Верьхий.
— Подавай лошадь!
И Городничий, схватив шляпу, бросился вон, вскочил на дежурного коня, поскакал; Хожалый за ним рысью. Зоя стояла, не двигаясь с места.
— Пожар? где? — вскричала Наталья Ильинишна, выбегая в залу.
— Да, что-то загорелось! — отвечала Зоя, как будто очнувшись и выходя из комнаты.
— А что, каково? — просвистел Нелегкий, вылетая из трубы на Ведьме.
— Признаюсь! да это такая чудная вещь, что уж я не знаю! Я так и думала: ну, все пропало!.. Трех умов бы не приложила! Одно — рассуждаю себе — одно средство: заставить подавиться его словом или навести на нее морок.
— А ты, баба! что бы толку было? Положим, что у него остановилась бы целая речь в горле — а он бы упал на колена; она бы, положим, упала в обморок — а мать прибежала бы, перекрестила бы ее… тогда что?
— Правда твоя!.. Ну дивлюсь, что тебе только один городишко дан в распоряжение! тебе бы, по крайности, область целую!
— Да… да нет! я не честолюбив и не искателен; притом же величина ничего не значит: что мне в области! из одного человека можно больше сделать, нежели из мильона голов; один в мильон раз лучше мильона: одного можно так раздуть, что он в состоянии будет съесть пол человечества — вот что!
— Хитер ты!.. Знаешь что?
— Что?
— Я тебя очень люблю!
— Что?
— Убирайся в трущобу!
Ведьма ужасно как обиделась этим словам; но скрыла свою досаду и отправилась восвояси.
— Бес проклятый! — думала она, — постой! дай мне только овладеть красотой Зои! тогда посмотрю, скажешь ли ты мне: «Убирайся в трущобу!» Немного остается: дай только к Иванову дню Думке воротиться!.. Я ее, голубушку, истомлю тоской девичьей, истает она у меня, увянет, по слезинке оберу ясные очи, по листику оберу пылкой румянец, по искорке оберу пламень сердца, по волоску выщиплю длинную косу! все ее богатство будет моим! Тогда, бес проклятый, скажи мне: «Убирайся в трущобу!»
XIII
Когда Городничий прискакал на пожар, дом Вернецких был уже обнят пламенем. Посреди толпы народа и пожарной команды, труб и бочек, треску и шуму, давки и ломки, дыму и летящих галок несколько человек держали женщину; она была уже почти без памяти, но рвалась из рук и вскрикивала потерянным голосом: «Пустите! пустите к ней! Эвелина! дочь моя!»
Никто не уговаривал уже ее, не уверял, что дочь ее жива: все заботились только удерживать бедную мать, чтоб она не вырвалась из рук и не бросилась в огонь.
Сам Вернецкий был в отсутствии.
— Что, что такое! — вскричал Городничий, соскочив с лошади и подбегая к толпе.
Из отрывистых слов и воплей Вернецкой он понял, что Эвелина в огне.
Всхлопнув руками, Городничий бросился на двор горящего дома, где уже работала пожарная команда, прыская на огонь и вцепляясь в крышу баграми. Густой дым взвевался клубом, стлался по земле, искры сыпались, как из горна. Пробираясь по двору сквозь дым и темноту, Городничий столкнулся с кем-то, шляпа с него слетела, искры посыпались из глаз… Между тем как он пришел в себя и хотел поднять шляпу — вихрь отвеял дым, пламя осветило, и Городничий увидел, что подле него грохнулся на землю пожарной команды солдат; ноша, обвернутая в шинель, выпала из рук его — это была полумертвая девушка.
Хлынувший клуб густого дыма задушил снова озаряющее пламя и прилег тучей на землю.
Между тем приехал и сам Вернецкий. Узнав, что дочь его обнята уже пламенем, он велел держать жену свою, а сам бросился к горящему дому, крича:
— Братцы, помогите мне спасти дочь! половину именья отдам спасителю!
— Вот, вот она! — закричал народ, увидя Городничего, выбегающего из дыму с девушкой на руках.
Отец бросился к нему, схватил беспамятную Эвелину и понес к жене, целуя бледное чело дочери.
— Вот, вот она, вот твоя Эвелина! — вскричал он, передавая дочь)на руки матери, которая облила ее слезами и, осыпая поцелуями, скоро возвратила ей чувства. — Вот спаситель Эвелины! — сказал Вернецкий, обнимая Городничего.
— Вы возвратили и ей, и мне жизнь! — сказала мать, прижимая к груди своей голову очувствовавшейся Эвелины, но еще не пришедшей в себя от испуга.
В тот же день Зоя узнала, что Городничий спас дочь Вернецкого: вынес ее из огня, подвергая жизнь свою почти неизбежной опасности.
— Ты слышала, Зоя, — сказала ей мать, — бедная Вернецкая чуть-чуть не сгорела! несчастная!
— Что ж за несчастие быть спасенной! — отвечала Зоя, — мне кажется, напротив, это придает более значения и красоте, и достоинствам: всякий будет смотреть на нее с любопытством.
— Ты начиталась философии, моя милая, — сказала с сердцем Наталья Ильинишна.
— Теперь у нас двое прославленных в городе: спасенная и ее спаситель! — продолжала Зоя.
— Не хотела ли бы и ты побывать в огне?
— Отчего же: побывать ничего не значит, если за это можно купить общее внимание.
На другой день Зоя узнала, что Городничий предложил Вернецким свой дом, покуда они устроятся.
На третий день новые вести: Городничий обручен на Эвелине.
Казалось, что Зоя приняла равнодушно эту весть. Неужели же в самом деле Зоя будет сожалеть о подобном женихе? Однако же на лице Зои выразилось что-то странное: какое-то равнодушие ко всему, соединенное с презрением. Она ходила по комнатам, в наружности не было ничего неспокойного, а взоры блуждали по всем предметам, искали, на чем бы остановить свое внимание.
В это самое время вдруг отворилась дверь из передней, и Подполковник инвалидной роты, Эбергард Виллибальдович, вошел в залу. Сделав несколько шагов вперед, он остановился и отвесил три почтительных поклона Зое; потом подошел к руке.
— Все ли топром здорофи, Сое Романне? имей ли фозмошнезь фидеть фаш паштенне ратидль?
— Он в своей комнате, — отвечала Зоя.
Между тем человек доложил ему о приезде Подполковника; Роман Матвеевич приказал просить его в кабинет.
При входе в кабинет, где была в это время и Наталья Ильинишна, Эбергард Виллибальдович извинился, что обеспокоил своим прибытием, и сказал: «Имей маленькэ теле от вас».
Наталья Ильинишна хотела выйти; но Эбергард Виллибальдович обратился к ней с просьбой остаться.
— С фы и в обше с вашем супруком я имей телё, — сказал он ей.
— Что вам угодно, господин Подполковник? — сказала Наталья Ильинишна, садясь на диван и повторяя приглашение садиться.
Эбергард Виллнбальдович начал историю с своей родословной; потом приступил к изложению своего формуляра; потом стал описывать настоящее свое положение, что, получая достаточное жалованье, он обзавелся порядочным хозяйством, и потому — сказал он, несколько приостановившись, — в таком чине и при обеспеченном состоянии ему необходимо благовоспитне хазейкь…
Между тем как Роман Матвеевич и Наталья Ильинишна посмотрели с недоумением друг на друга, Эбергард Виллибальдович, в заключение своей речи, объявил, без больших церемоний, что, находя Зою Романовну благовоспитанной, достойной девушкой и покорной дочерью и надеясь, что она будет верной женой и нежной матерью, он желает получить ее руку, на что и просит родительского согласия.
Роман Матвеевич не знал, что отвечать на подобное предложение; но Наталья Ильинишна не задумалась.
— Господин Подполковник, — сказала она, — мы должны откровенно сказать вам, что вполне предоставили дочери своей располагать своим сердцем и рукою.
— Да, вполне, — прибавил Роман Матвеевич, довольный выдумкой Натальи Ильинишны.
— Этё и прикрасне! Сое Романне сам решит мой ушесь! Посвольть мне гафарить знее.
— Когда вам угодно; но… мы лучше сами объявим о вашем предложении дочери и уведомим вас.
— О, нет, я толжень сам гафарить, — сказал Эбергард Виллибальдович, — если посфольте, сафтра.
— Очень хорошо! — отвечала Наталья Ильинишна сухо, досадуя уже на дерзость Эбергарда Виллибальдовича, который между тем, расшаркался, пожелал: благополюшно, — и поцеловал руку Натальи Ильинишны.
Зоя продолжала между тем ходить по комнатам; глаза ее блистали, а чувства, казалось, желали какой-нибудь внешней бури, чтоб заглушить внутреннюю.
— Аа, вот и Сое Романне! — вскричал Эбергард Виллибальдович, выходя в залу и встретив Зою. — Сое Романне, — продолжал он, подходя к ней, — ратидль фаш скасаль, што от ваше савизит заставить мой шастье!