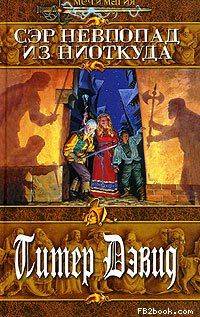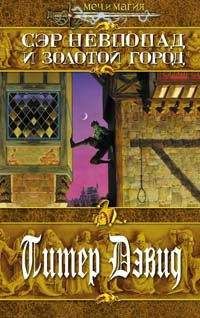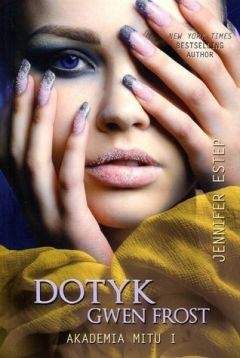Я решил воспользоваться его минутным замешательством: сперва перекатился на спину, потом привстал, натянул наконец свои панталоны и выпрямился, держась за один из четырех столбиков кровати, на которых был укреплен роскошный полог. Это чтобы не опираться на свою правую ногу, которая у меня с рождения кривая и хромая — словом, почти что бесполезная. Воображаю, что за зрелище я собой являл в тот момент! Тощий, нескладный, с чрезмерно развитой мускулатурой рук и плеч — все из-за упомянутого выше физического уродства, — лопоухий, со спутанной копной огненно-рыжих волос. Вдобавок мой нос был слегка кривоват и немного горбат — неправильно сросся после перелома. Дела давних дней. Пожалуй, единственной мало-мальски привлекательной чертой моей внешности были глаза — большие, серые, на редкость красивого, я бы даже сказал, изысканного оттенка, таившие в глубине своей выражение задумчивости и легкой грусти и весьма облагораживавшие мое некрасивое лицо простолюдина. Боюсь только, Гранит в те минуты был далек от того, чтобы залюбоваться моими очами.
Мы с ним простояли друг против друга в безмолвном оцепенении целую вечность или по крайней мере ее половину. Он вроде как даже и не смотрел на меня — скорей всего, осмысливал ситуацию. Ему на это требовалось время, а я, представьте, вовсе не пытался его торопить.
— Я… тебя узнал, — произнес он наконец. — Ты оруженосец Умбрежа. Конюшни чистишь. Ты Недород!
— Невпопад, — машинально поправил я и тотчас же пожалел об этом. Нет бы прикинуться глухонемым! Мне хотелось лягнуть себя самого за такую глупость. Уж лучше бы я попросту склонил свою глупую голову, вытянув шею, чтобы ему было удобней перерубить ее мечом.
Но Гранит, как оказалось, был вовсе не расположен дожидаться моего на это соизволения. Он потянулся к рукоятке меча и со звоном выдернул его из ножен. Я отступил назад, стараясь, чтобы моя хромая и кривая нога попала в поле его зрения. Одним словом, решил бить на жалость.
Гранит не сводил с меня остановившегося взгляда, но обращался при этом к жене:
— Так-так, значит, оруженосец! Вы меня обманывали с оруженосцем?! Вы меня променяли на чистильщика конюшен?! Который вечно по локоть в навозе?! Вот этому ничтожеству вы отдавались, позоря мое имя?!
Мне нечего было и рассчитывать на помощь или хотя бы участие Розали. Хотя губы ее и шевелились, но она не могла выдавить из себя ни звука. Приходилось как-то выкручиваться самому.
Итак, отрицать сам факт прелюбодеяния не представлялось возможным. Даже я, будучи по натуре отъявленным вралем, это понимал. Поэтому мне ничего иного не оставалось, как прибегнуть к уговорам, сделать так, чтобы Гранит взглянул на ситуацию под несколько иным углом.
— Послушайте… Послушайте, милорд, — запинаясь, начал я, — т… т… технически, пусть только технически, ваше имя нисколько не опозорено. Пока еще нисколько, ни капельки, сэр. Ведь никто ж ничего не знает. Вы, Розали и я… И больше — ни одна живая душа. И если мы… если мы оставим это между нами… тогда, вот увидите, каждый из нас сможет… сможет без труда предать это прискорбное… м-м-м… происшествие… полному забвению. Хранить молчание то тех пор, покуда… покуда…
Я собирался возвышенно закончить: «Покуда тайна эта не будет похоронена вместе с каждым из нас». Но, к несчастью, в этот самый миг Розали обрела наконец дар речи и опередила меня:
— Покуда вы снова не уедете, милорд.
Гранит заверещал, как раненый вепрь, и занес меч над головой. Я в ужасе попятился, и моя негодная нога, разумеется, подогнулась, а здоровая запуталась в складках простыни, так что я самым жалким образом растянулся на полу во весь свой невеликий рост. Розали пронзительно взвизгнула.
Я подумал, а не высказать ли ему как раз теперь то, что я долгое время таил в глубине души, — а именно, что он вполне мог оказаться моим отцом. Но опасение, что Гранит при данных обстоятельствах примет эту безусловную правду за хитрую уловку с моей стороны, заставило меня прикусить язык. К тому же в голове моей созрело иное, более уместное решение. Следовало теперь сыграть на его единственной слабинке.
— Остановитесь, милорд! — вскричал я. — Во имя чести!
Он замер, возвышаясь надо мной, как гранитная глыба, с воздетым над головой мечом, которым он готов был рассечь меня надвое, словно мясник бычью тушу. Хочу заметить, что лезвие его меча было довольно необычным — проклятую эту штуковину какой-то умелый оружейник оснастил клыками — острыми зазубринами по обеим сторонам. Наверное, этим мечом Граниту было очень даже сподручно кромсать противников на части и выпускать у них кишки. Да и чтобы без всяких усилий разрубить голову и туловище врага, меч этот был вполне пригоден. И стоило Граниту обрушить лезвие на меня, будьте покойны, я распался бы на две половинки от макушки до копчика. Но он этого не сделал, промедлил, обдумывая мои слова, и стоял не шелохнувшись, только его усы вдруг ощетинились, словно зажили своей собственной жизнью. Мне со страху даже представилось, что они, того и гляди, осыплются и ринутся на меня в атаку — все до последнего волоска.
— Честь?! — выкрикнул наконец Гранит. — Неужто же ты, склонив мою жену к преступному сожительству, посмеешь заикнуться мне о своей чести?!
— О вашей, милорд, а вовсе не о моей, — торопливо возразил ему я. — Кто я такой? Полное ничтожество! Но вот вы — совсем иное дело, сэр, и острота вопроса…
— Что?! — прервал он меня. — Какая еще острота, урод?!
Я поднял боязливый взгляд на лезвие, которое все так же было занесено над моей несчастной головой и острота которого лично у меня не вызывала ни малейших сомнений.
— Милорд, посудите сами, ведь когда мое тело обнаружат, то вы, как человек чести, принуждены будете сознаться, что я пал от вашей руки, и… и объяснить, за что вы меня лишили жизни…
— С чего бы я стал это скрывать?! — Гранит свирепо сверкнул на меня глазами из-под нахмуренных бровей. — Никто при дворе не станет оспаривать мое право как оскорбленного супруга…
— Бесспорно, — кивнул я, прекрасно отдавая себе отчет, что чем дольше я буду заговаривать ему зубы, тем больше у меня появится шансов избежать гибели. — Но если вы меня сейчас прикончите, это будет удар, достойный руки мясника, а вовсе не рыцаря.
— Что?! — В голосе Гранита, когда он это произнес, ярость, благодарение богам, пусть всего на миг, но уступила место озадаченности.
— Да вы только взгляните на себя со стороны, милорд, — продолжал я, не дав ему опомниться. — Могучий рыцарь в кожаных доспехах, с боевым мечом в руке… И на меня, полуголого, распростертого у ваших ног, безоружного калеку… Что за картина, сэр, честное слово! — Я все это произнес таким назидательным тоном, словно отчитывал нашкодившего ребенка. Признаться, мне до сих пор невдомек, как я мог на такое отважиться, в душе умирая от страха и отчаяния. — А вдобавок я ведь всего лишь оруженосец, нетитулованный и безземельный. Разве это по-рыцарски разрубить меня надвое, как воловью тушу? Разве подобное деяние не ляжет пятном на вашу честь воина и вельможи? И разве честь мужа не требует отмщения более изощренного, чем этакая бойня?
Мне наверняка стало бы чуточку менее страшно, если бы Гранит отвел занесенную руку с мечом хоть на сантиметр в ту или другую сторону от моего лица. Но он этого не сделал. Зато и не обрушил свое чудовищное оружие на мою голову. Просто спросил:
— Что у тебя на уме, презренный?!
— Дуэль, милорд, — быстро сказал я, не веря своему счастью. «Неужто мне удастся его уболтать?» — Завтра… Вы и я… встретимся, где вам будет угодно, и сразимся по всем правилам. О, разумеется, исход поединка предсказать нетрудно… Я ведь всего лишь оруженосец, боевого опыта не имею, к тому же — видите? — нога у меня хромая… А вы… вы, милорд, это вы…
— Совершенно верно, — мрачно изрек он.
— Да, да, милорд! — подхватил я. — Вы меня, без сомнения, прикончите первым же ударом, но зато ни один из ваших недругов не упрекнет вас в том, что вы расправились с безоружным, да и о причинах поединка если кто и узнает, то лишь с ваших слов. Таким образом, честь ваша останется незапятнанной, милорд. Во всех… во всех отношениях. — Набрав в грудь воздуха, я с воодушевлением заключил: — Признайте, милорд, что я дело говорю. Вы меня накажете, как я того заслужил. Ваша репутация при этом останется безупречной. Лучшего выхода из создавшейся ситуации и не придумаешь, верно?
Закончив свою страстную речь, я весь напыжился от гордости. Еще бы, я его положил на обе лопатки. Пусть только фигурально. Лишь одно меня тревожило — мысль о Розали. Эта дура набитая в любой момент могла открыть рот и каким-нибудь нелепым высказыванием испортить мне всю игру. Но, бросив в ее сторону беглый взгляд, я удостоверился, что она как будто не собиралась вступать в разговор, и почти успокоился.
Только не подумайте, что я и вправду собирался биться с Гранитом один на один. Этого мне еще не хватало. Он мог бы шутя расправиться даже с грифоном. А что до меня, то старина способен был одним ударом вогнать мою голову так глубоко в туловище, что я до конца дней зубами завязывал бы шнурки на башмаках. Так что ж я, по-вашему, самоубийца?