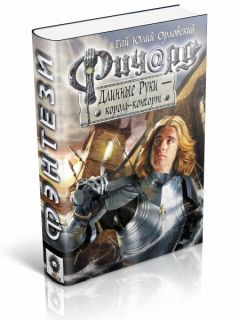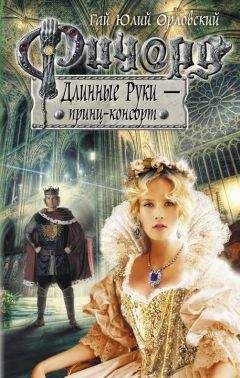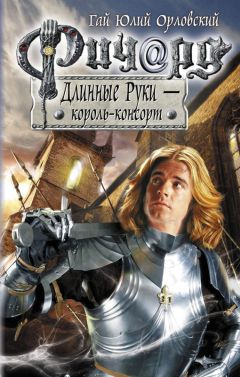— Нет!
— Ну нет, — согласился я поспешно, дурак, поторопился, — можно не пускать, ты права, люди могут же обходиться без сладкого?.. Иди сюда ближе, положи голову вот так, а ногу закинь мне на пузо… да не дергайся, мы же говорим о высоком, о Божественном, это же намного ценнее, чем плотские утехи…
Проснулся я от щебета птиц за окном, на моем плече покоится голова Азагердии, волосы в беспорядке по всей подушке, люблю это зрелище, тихонько посапывает, по моей коже бегает легкий ветерок.
Вчера чуть ли не до утра говорили о Высоком и Божественном, но все-таки я сумел втихую незаметно еще раз завести, раздразнить ее нежную податливую плоть, и хотя утехами позанимались намного яростнее, но потом сразу же вспомнили, что мы — одухотворенные личности. Правда, поговорить на эту тему не успели, она заснула так резко, словно потеряла сознание.
Я с состраданием посмотрел на прекрасное чистое лицо, вздохнул и заснул с чувством честно выполненного долга, а сейчас проснулся так и вовсе как орел сизокрылый и начал подумывать, как бы вылезти из-под нее потихоньку, а то прижалась, вцепилась, все-таки настоящая женщина должна держаться за мужчину, особенно, гм, вот так мило и преданно даже во сне…
Тихо собрав одежду, я перебрался через внутреннюю дверь в кабинет, там напялил штаны и подумал, что Азагердия вообще-то смоется, как только проснется, а потом долго будет стараться не попадаться на глаза.
Некоторое время работал с указами и распоряжениями, одновременно пытаясь угадать, как там сейчас в Ламбертинии и Мезине, да и Скарлянды с Варт Генцем беспокоят, нельзя их надолго оставлять без присмотра.
И хотя для местных реалий и полгода-год — совсем недолго, но для меня пытка и неделя без новостей с мест. Дразнящая мысль выныривала снова и снова насчет того, что нужно упорно копать в том же направлении, чтобы помимо зеркал, пентаграммы Дитера и браслета Иедумеля обрести способность передвигаться с той же скоростью, но уже в те места, где вообще нет никаких приемных станций.
А потом хорошо бы попробовать прыгнуть с того портала, что возле монастыря цистерианцев… Явно же окажусь на Юге. И там, где меня не ждут. Где вообще ничего не ждут…
Хотя, с другой стороны, если и на Юге прорастет такое же странное зернышко, но скорее всего там все порталы под неусыпным надзором. И потому эти фантазии лучше оставить… хотя и жаль.
Из окна увидел, как появился отец Дитрих, он сразу начал общаться с иерархами церкви, что прибыли из разных провинций, даже из Ундерлендов. Все оживленно обмениваются мнениями, мне показалось, что меньше всего говорят и даже думают о выборах короля, у церкви цели пограндиознее.
Оставив бумаги, я вышел в коридор, стражи замерли, я буркнул:
— Вольно, вольно… но не слишком.
Огромный двор, что всегда казался необъятным, сейчас тесноват от гостей, что не спешат по зданиям, где не удастся общаться так же вольно, одновременно высматривая в толпе новых знакомых.
Я потихоньку и смиренно приблизился к отцу Дитриху, глазки долу, поцеловал ему руку, сморщенную и дряблую, как лапа птеродактиля.
— Благословите, святой отец…
Он перекрестил, на лице сочувствие и тревога, словно я не чудо морское, а тяжелобольной, что может и не выкарабкаться.
— Господь тебе в помощь, сын мой.
— Спасибо, святой отец!
Он вздохнул.
— Как ты?
— Тружусь, — заверил я, — как во-о-от такая пчелка! И без жала. Божья пчелка. Безвредная и беззубая.
Он сказал негромко:
— Ты что-то хочешь сказать?
— По мне так видно? — спросил я.
— Мне видно, — ответил он.
— Ну, — протянул я, — если можете отойти со мной чуть в сторону, а то здесь так галдят…
Он даже не дослушал, двинулся прочь, я догнал и сказал быстро:
— Отец Дитрих, дело вроде бы пустяк, но на самом деле очень серьезное, такие пустяки приводят к лавинам. Послушайте меня очень внимательно. Далеко-далеко отсюда, в тех далеких королевствах, откуда я добрался сюда, из-за упрямства церкви по одной мелкой мелочи, даже мелочишки, произошел очень серьезнейший раскол. Да-да, в самой церкви.
Он посмотрел на меня очень строго.
— О чем ты, сын мой?
— Один король, — сказал я, — вы о нем вряд ли слыхали, не получив от жены за пятнадцать лет супружеской жизни наследника, попросил церковь расторгнуть брак, чтобы он мог вступить в новый брак. Церковь ему отказала. Несколько лет он добивался у папы разрешения на развод, собирались различные комиссии и суды, но развода ему так и не дали. Тогда он в ярости заявил, что его королевство отныне выходит из-под власти папы. В его землях будет своя церковь со своими законами!
Отец Дитрих воскликнул:
— Это невозможно! Это же… разорвать плащ Христа, что укрывает наш мир…
— Плащ был разорван, — отрубил я. — Из-за упрямства и нежелания уступить в таком пустяковом вопросе. Этот король вырвал церковь своей страны из единого пространства и объявил ее отдельной и независимой, подчиняющейся только ему, как главе государства, а не папе. После чего его церковь, конечно же, дала ему право развестись и взять новую жену.
Он вздрогнул, перекрестился.
— Разве такое мыслимо?
— Для сильных людей мыслимо все, — ответил я твердо. — Отец Дитрих, я очень хочу, чтобы у нас церковь всегда была той, какой должна быть. Сейчас мы все видим, герцогиня Изабелла ушла к Вирланду и счастлива с ним, а герцог Готфрид счастлив с леди Элинор. Так почему же не разрешить им то, что уже создано и никому не вредит?
Он вздохнул.
— Сын мой, я понимаю твои чувства… и сам на твоей стороне! Но догмы для того и необходимы, чтобы здание стояло незыблемо. Нельзя поддаваться…
— Но церковь для людей!
— И для Великой Идеи, — напомнил он. — Если каждый мирянин начнет вытаскивать для себя песчинку, в конце концов само здание зашатается и рухнет, погребя нас под обломками. И мир вернется к дикому язычеству.
Я слушал и опускал голову. Отец Дитрих говорит все правильно, однако высокие истины бывают слишком холодными и тяжелыми, чтобы нести их везде и во всем. Человек устает, и если ему не позволить сесть и перевести дух, он сядет сам. А это будет уже неповиновение.
— Жаль, — проговорил я. — Очень жаль.
Он кивнул, лицо стало холодным и отстраненным. Я, почтительно поддерживая его под локоть, отвел обратно к группе епископов, в голове стучит предостерегающее, что мне только церковными реформами позаниматься осталось, и тогда вообще будут кранты, я сам, как пирамида из песка, рассыплюсь под первым же дождиком.
Про реформы нельзя даже заикнуться, это не только сразу потерять поддержку Вселенской церкви, да еще и попасть в еретики. В лучшем случае. Про худший и думать не хочу.
Безусловно, я на стороне церкви. Безоговорочно. Но это не значит, что слепо приму все, что она говорит и делает. Одно время и молодой Лютер все принимал и свято исполнял, пока не увидел, что… кое-что нужно исправить.
Исправил, да еще так исправил, что раскол несколько веков терзал Европу. В религиозных войнах погибло больше народу, чем во всех битвах и даже во время чумы. Германия стала первой лютеранской страной, а затем поправки Лютера перекинулись в Англию и пошли дальше-дальше, после чего страны, принявшие его протестантство, стали самыми могущественными и богатыми, а немецкие колонисты завезли протестантство и за океан, где оно стало основной религией.
Так что пойти против церкви — это не против Творца. Лютер как раз и опирался в отрицании официального католицизма на Библию, всякий раз приговаривал: «этого в Библии нет» и «в Библии есть все, что нам нужно».
Вернувшись в кабинет, подписал еще десятка два указов, три спора между лордами умело передал в Совет по геральдике, освободил от налогов поставщиков парусины, дело хоть и доходное, но еще мало кто умеет выделывать достаточно высокого качества, потому нужно поощрять, а то и выделять гранты на развитие.
Сэр Жерар время от времени докладывал о посетителях, которых нельзя не принять, уж и не представляю, сколько он уже отсеял, я принимал, жаловал, разрешал споры, наконец поглядел по сторонам, оглянулся на сэра Жерара, он все так же следит за мной, насупленный, как сыч на морозе.
— Что-то я Арчибальда Вьеннуанского не вижу, — сказал я. — Такой элегантный красавец, любимец женщин и веселья, он должен быть здесь в самой середке!
Он вздохнул, потупился.
— Ваше высочество…
— Что? — спросил я в тревоге. — Что могло случиться? Его любили все, а врагов не было. Этот баловень-аристократ просто рожден для счастья!
Он вздохнул еще тяжелее, развел руками и начал смотреть в сторону.
— Говори, — велел я. — Он жив?
— Да…
— Искалечен?
— Снаружи нет…