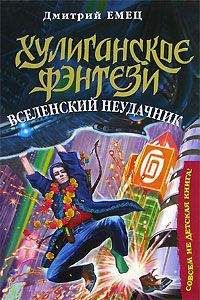Ознакомительная версия.
– А обратная связь?
– Ее, увы, нет. Способностью к телепатии ни он, ни я не обладаем, а считывать мысли по всплескам активности в различных участках коры мозга наука пока не научилась. Максимум, что мы умеем, это фиксировать настроения и отличать периоды сна от периодов бодрствования, но это ничтожно мало. Я подумывал о речевом синтезаторе, но опять же это технически невыполнимо, потому что все упирается в вербализацию процесса мышления. Да и стоит ли пытаться: захотел бы homo superior разговаривать с нами? О чем бы мы могли ему рассказать, когда пропасть между нами и ним больше, чем между нами и питекантропами? Это даже не пропасть, а черт знает что – целая галактика!
Я приблизился к аквариуму и, преодолевая отвращение при виде обнаженного мозга, всмотрелся в неровную, бугристую поверхность с маленькими отверстиями, в которых исчезали питающие трубки. Я смотрел на мозг – сероватый, чем-то похожий на чудовищный кочан цветной капусты, и размышлял о том, что в этом хаосе клеток заточена живая, мыслящая, страдающая личность, могущественная и бесконечно одинокая. Суждено ли нам вообще понять ее, если она оторвалась и ушла от нас в своем развитии так далеко, что мы и помыслить не в силах? Какие картины, сложные и невообразимо прекрасные, рождаются и навеки запечатлеваются в этих клетках? Что он, наконец, такое, этот homo superior, если даже его создатель профессор Коромийцев в сравнении со своим творением не более чем любознательный неандерталец, случайно вырубивший кремневым зубилом нечто заставившее его замереть, оцепенеть с открытым ртом – такое, чего не в состоянии охватить разум человека?
– Профессор, а вы не пробовали определять его эмоциональное состояние? Что он чувствует? – взволнованно спросил я.
Стоя у аквариума, Коромийцев невесело барабанил пальцами по стеклу:
– Определял, и не раз. Одно время это меня очень занимало. Вначале, когда сознание в нем только зародилось, мозг был немного напуган, озадачен, словно не совсем понимал, что он такое. На второй стадии, разобравшись что к чему, испытал радость от новизны собственного существования и от самых простых физиологических чувств – вроде изменения температуры бульона или насыщенности раствора кислородом. С каждым днем он совершенствовался, вскоре часами мог любоваться какой-нибудь пылинкой или цветком, который я приносил сверху. Приборы фиксировали высочайший уровень эндоморфов восторга. Он буквально переполнялся эйфорией от собственного бытия.
Профессор замолчал, судорожно провел рукой по бороде, затем продолжил:
– Убедившись, что его клетки уже созрели и жаждут наполнения, я стал постепенно предоставлять информацию: вначале математику, затем физику, естественные науки. Мой homo superior ухватился за знаниях такой жадностью, что я только диву давался. Обучающий процессор работал день и ночь, а ему все было мало. Пришлось приобрести в помощь первому еще два процессора с увеличенным быстродействием. За месяц он поглотил практически все знания из области химии, физики, высшей математики, астрономии и естественных наук. Сразу скажу: этих знаний оказалось не так уж много, ибо мы весьма недалеко ушли от каменного века. По графику осциллографа я видел, что мой подопечный порядком разочарован. Еще бы, ведь все, что я мог ему дать, было для него азами, начальной школой, а дальше... дальше уже ничего не было. Тогда, махнув рукой на прежнюю систему, я загрузил в обучающие процессоры философию. Это открыло для него новый мир, и он с упоением стал купаться в океане абстрактных понятий. Из идеалистов ему больше других понравился Платон, а из рационалистов – Декарт. Я сужу по тому, что к их базам он обращался чаще всего. Но через некоторое время и философия перестала его удовлетворять, он явно заскучал.
– И что вы стали делать тогда? – спросил я.
Профессор зябко пожал плечами:
– А что я мог? Открыл для него вначале психологию и этику, затем серьезную художественную литературу (о ее существовании он, вероятно, уже догадывался по некоторым оговоркам в философии), а потом, когда запас серьезной литературы исчерпался, стал пичкать его мемуарами, жизнеописаниями великих людей и историческими романами. Я не хотел этого делать, но уж очень было обидно за человечество: пусть хоть узнает, что мы собой представляем. Вначале, с непривычки перескочив с точных знаний на абстрактные, а с абстрактных – на очевидное вранье, мой homo superior немного ошалел, но вскоре освоился настолько, что уже ничем не брезговал. Как-то я недосмотрел, и он по сети добрался до процессора, в котором хранились приключения, любовные романы и подобный вздор. Наутро я спохватился и блокировал этот процессор, но было уже поздно – он успел заглотить несколько десятков тысяч текстов. Узнав из них о прелести женских тел, безумстве страстей, лунных ночах, объятиях, дуэлях, странствиях, дружеских пирушках и других скромных радостях, которыми человечество скрашивает свое унылое существование, homo superior вдруг понял, что сам навсегда лишен этого. Можете себе представить, что это значило при его-то воображении! Только тогда я спохватился, что он и чувствует не так, как люди, а намного острее, – ведь, делая его оперативную память универсальной, я настолько же усилил и эмоциональную сферу, и теперь он рыдал, страдал, восторгался, любил и переживал в сотни раз сильнее, чем самый впечатлительный поэт или художник. Я попытался немного остудить его религией и представлением о вечной жизни, да куда там! Очевидно, религиозные понятия мне следовало привить ему до всего остального, а теперь было уже поздно: философия сделала его невосприимчивым к религии, а страсти – к философии! С тех пор он стал настоящим эмоциональным... я не знаю кем... маньяком! За неделю я сменил пятнадцать иголок осциллографа, если вам это о чем-то говорит!
Последние фразы профессор выкрикнул очень нервно, почти истерично. Сам не отдавая себе отчета, что делает, он так мял и щипал свою бороду, что она все больше теряла прежнюю благообразность, приближаясь к состоянию мочала. Профессор опомнился лишь тогда, когда вырвал из бороды целый клок, и слезы выступили у него на глазах от боли. Я никогда не видел, чтобы ученый так переживал за свое творение.
– Вы уверены, что его выбили из колеи именно нереализованные желания? И почему вы упорно считаете его мужчиной? Ведь в равной степени этот мозг может ощущать себя и женщиной? Кто знает, по какому типу стали развиваться клетки? – спросил я.
Профессор порывисто повернулся ко мне.
– Поверьте, у меня есть все основания полагать, что мой homo superior – мужчина! – сказал он веско. – Даже начинающий патологоанатом отличит, кому принадлежит мозг. И потом, ведь он влюбился в мою аспирантку! Она приходила ко мне несколько раз, и это была первая живая женщина, которую он увидел. Кстати сказать, довольно смазливая, хотя без какой бы то ни было научной интуиции. Когда она появлялась здесь, стрелка осциллографа начинала скакать как бешеная. Из-за опасения за его рассудок мне пришлось отключить видеокамеру и начать вводить кое-какие препараты. Он как будто немного успокоился, и я, обрадовавшись, что пик позади, снова включил ему зрение, уменьшив при этом дозы препарата. С моей стороны это было ошибкой, потому что через два дня он попытался убить меня.
– Что? – недоверчиво воскликнул я.
– Трудно допустить такое, не правда ли? Он целую ночь расшатывал свою видеокамеру, добившись того, что она повисла на одном болте. Как вы видите, камера находится довольно высоко, под самым потолком, и когда я, ничего не подозревая, подошел к аквариуму, она упала на меня сверху. К счастью, он не рассчитал, и мне лишь слегка оцарапало висок. После этого неудачного покушения он погрузился в глубочайшую депрессию, из которой пришлось выводить его транквилизаторами. Вот вам и homo superior – такой же раб страстей, как и все мы. А еще говорят, что гений и злодейство несовместны, – с горечью скривив в усмешке рот, сказал профессор.
– Но почему он хотел убить вас? За что?
Уставившись в пол, Коромийцев сухо сказал:
– Причины очевидны. Я полагаю, он хотел отомстить мне, как своему создателю, но это не главное. Главное то, что он ревновал. Это была попытка убийства из ревности.
– К вам?
Профессор болезненно поморщился, как если бы мой вопрос был явно неделикатен.
– Разве вам еще не ясно, что аспирантка была моей любовницей? Мне только сорок пять, я вдовец, ну и сами понимаете... После того покушения она меня бросила и улетела с планеты, даже не сказав куда.
– Но почему?
– Кто ее разберет? Должно быть, испугалась, что раз он способен на нечто подобное, то, может быть, и я тоже... Таким образом, все наши беды, как и в Эдеме, произошли из-за женщины. Но только тогда женщина погубила Адама, теперь же она погубила homo superior.
Я заметил, что видеокамера смотрела теперь не на меня – ко мне она потеряла всякий интерес, – а на стену, находившуюся прямо напротив нее. Заинтересовавшись, я обернулся и увидел фотографию молодой тонкогубой женщины с распущенными волосами.
Ознакомительная версия.