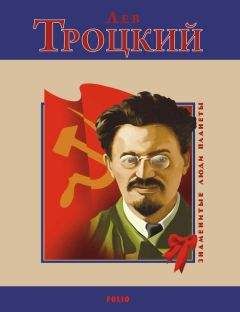Глава двадцать восьмая,
в которой Пандорин зрит в корень, а вожди обращаются с мобилизующим призывом, и у каждого своя правда
— Мы попали в спецвыпуск, — старший опер положил перед шефом газету, которую раскопал неизвестно где, ведь с базы не отлучался. Шустр и проворен был старший опер, а, может, газетёнку подкинули доброжелатели.
Глубокая ночь с пятницы на субботу не утихомирила департамент, готовящийся к маршу несогласных. Пандорин держался только на антивампирском порошке, а его оставалось в табакерке немного — выдача производилась строго под оперативное мероприятие.
«ПОШЛИ ПО ШЕРСТЬ, ВЕРНУЛИСЬ СТРИЖЕНЫ» — издевательский заголовок предварял полосную статью о разгроме опергруппы. Посреди красовалась карикатура, выполненная знакомым пером. Из горящей избы вприпрыжку выскакивали смешные человечки при эполетах, с болтающимися на боку саблями, придерживаясь обеими руками за поджаренные зады. Из окна выпархивала донельзя удивлённая летучая мышь.
Начальник сыска дочитал и кровь его закипела. Какой-то щелкопёр изгалялся как мог, подробно (и местами близко к правде) описывая кошмар во флигеле, словно сам присутствовал и всё видел.
На ум пришёл уволенный полицейский. Нижние чины охотно сливали журналистам служебную информацию за угощение в трактире. Если трус был прикормленным, это объясняло бойкость появления материала.
Спецвыпуск назывался «Вечерний трубадур».
— Ты знаешь, — Пандорин устало смотрел на газетную шапку, сравнивая ничтожность названия с ничтожеством автора, а их обоих с силой воздействия на благорасположенные умы доверчивой публики, — что двадцать лет назад боярин Щавель всех трубадуров на Руси извёл?
— И правильно сделал, — похвалил старший опер. — Не знал. Молодец Щавель.
— Нам надо было в редакцию газеты ехать, а не вампиров ловить, — Пандорин отметил, что задним умом все крепки. — Там коренится главная зараза. Эх, времени мало, завтра в усиление. Сегодня уже… Как быстро всё развивается… Как по заказу.
— Вы б поспали, — посочувствовал старший опер и тут же пожалел об этом, потому что Пандорин резко выпрямился и окаменел лицом.
— Давай карту. Ещё раз посмотрим на предмет провокаций. В семь утра инструктаж.
Старший опер вытащил из подставки свиток, расстелил на столе план Великого Мурома. Придавили края карты чернильницей, пресс-папье и прочими весомыми аксессуарами, которые держат на столах чиновники, знакомые с внезапностью анонимных посетителей.
Перешли к делу, оба стали собранны, деловиты и как бы сравнялись в чинах.
— Что с активистами? — спросил старший опер.
— Дураки да бешены не все перевешаны, — пробормотал Пандорин. — Жандармские ездили в адреса. Почти без толку. Неблагонадёжные ныкаются перед акцией.
Начальник сыска вооружился карандашом. Слегонца очертил неровный круг возле Набережной улицы.
— Выдвигаемся тремя мобильными группами. Задача — не допустить провокаций со стороны Боевого Комитета Рабочей Партии. Особое внимание обращаем на позиции оцепления новгородского ОМОН. Это ж надо, батарею здесь поставить… Сначала народ покрошат, потом на мосту давка начнётся.
— Превосходно сработано. Могильщики обогатятся.
Пандорин кашлянул, продолжил, водя по карте остриём грифеля:
— Экстремистам будет выгодно ударить сюда. Или вот сюда. Подстрелят новгородцев, и пускай опричники в отместку разнесут рабочие трущобы, наша полиция их не удержит. Провокацию спишут на китайцев. Сначала распустят слухи, что ходи виноваты, потом расклеют по городу прокламации, дескать, китаёзы таким изощрённым восточным образом отомстили за Шанхай.
— Они могут, — неизвестно применимо к кому пробормотал старший опер.
— Прочёсываем, значит, всё, начиная с Окского парка, от памятника жертвам расправы девятьсот шестого года вдоль Воровского съезда и до Набережной.
— С памятника Илье Муромцу могут стрелять?
— Не-е, там дальше деревья. На крыши по одному человечку надо выставить. Хоть дворников засылай…
— Дворников и зашлём.
Карандаш Пандорина скользнул по мосту, провёл дорогу до позиции заградотряда, косо черкнул обратно, к линиям ближних домов.
— Что у нас тут?
— Дом общего пользования, — быстро ответил старший опер. — Внизу бывшая публичная библиотека, на верхнем этаже заброшенный книжный склад.
Пандорин начал что-то подозревать.
* * *
Особняки великомуромской аристократии, утопавшие в Окском парке, почтительно расступились перед статуей древнего воина. Могучий витязь в развевающемся плаще, доспехах и шлеме, совсем как у дружинников, вздымал в вытянутой деснице меч, над которым восходило солнце. Железный воин возвышался на круглом белом постаменте, прижимая шуйцей к груди древнеримское орудие казни, символизирующее победу над Жидовином. На каменной плите у подножия постамента сидели героические существа с крыльями, львиными телами и хищными клювастыми головами — грифоны, ныне на Руси не встречавшиеся.
— Это Илья Муромец, сын Иванов, — негромко сказал Щавель, две шеренги дружинников в боевом облачении замерли перед ним, смотря кто на памятник, кто на своего командира. — Он родился на муромской земле, в селе Карачарово. Вы все слышали о нём. Он много странствовал по Руси и многое сделал. Он наводил везде порядок. Ловил разбойников, одолевал басурман и прочих врагов нашей Родины.
Утро выдалось ясное, день был холодный. Бойцы новгородской дружины выдвигались на свои позиции, кто конным, кто с артиллерией. Возле парка спешились и подошли поклониться былинному богатырю.
— И когда в Великом Муроме, соблазнённые посулами и озлобленные наветами простаки собрались свергнуть власть, на их пути встала не разбежавшаяся полиция, а настоящий богатырь. Это случилось на первое мая, в Вальпургиеву ночь, когда силы зла особенно сильны и властвуют над миром. Илья Муромец не пропустил одержимых громить и бесчинствовать, как случилось недавно с китайцами. Он смёл напасть в реку, и Ока унесла трупы, едва не выйдя от крови из берегов.
Ратники пожирали глазами командира. Подвиг Ильи Муромца, в иное время оставивший бы равнодушными как деяния героев иных былин, сейчас принимался бойцами ОМОН неистово близко к сердцу — через полчаса на позиции. Они жадно внимали тому, что было, дабы знать, что делать и как будет.
— Это случилось давно, четыреста лет назад, — сообщил старый лучник. — Илья Муромец был великий богатырь, такие сейчас не родятся, — с некоторым сожалением добавил он. — Мы все будем достойны его, если сообща сделаем то, что совершил он один. Скоро нам предстоит встретиться с силами добра. Они выйдут с самыми лучшими целями для сотворения самого гнусного действа. Это будут не работяги. Чёрный пролетариат целиком на нашей стороне, в рабочих кварталах, его удержит полиция. С Болотной стороны на нас попрёт белый пролетариат. Те, кто интригами, хитростью, подлостью подчиняет себе окружающую массу, добывая из неё ништяки. Они как московские манагеры. Среди них и будут настоящие манагеры, мы их много выгнали из Москвы. Они готовы биться до последней капли чужой крови за свободу слова, но только свою. Они много говорят о свободах. Под свободой они понимают вседозволенность. Жечь, крушить и ломать, как надысь в китайском районе. Но сегодня у них не выгорит. Сметём напасть в Оку! Не пропустим на нашу сторону одержимых!
* * *
Вдали от центра, за версту от пасущей Великий Муром полиции, на Болотной стороне собирался народ, чтобы без помех сконцентрироваться, получить припрятанные в трущобах плакаты и знамёна, остаканиться дармовой чаркой, да собраться с духом перед маршем на купеческий берег. Чтобы ширнармассы не заскучали, их развлекали ораторы и московский гитараст, певец ртом Истома Нагой, по мере приближения к финалу увеличивая накал заученных экспромтов.
Павел ждал своей очереди, нервно вытирая ладони о жёлтую майку лидера. Новенькая и доселе ненадёванная, она хорошо впитывала пот. Повод для волнения имелся, да ещё какой! Задачей командира Отвагина, прописанной в плане мероприятия, было раскачать толпу и повести на главную площадь Великого Мурома. Путь неблизкий, вдобавок, скауты донесли, что на другом берегу встал странный заградотряд с конными латниками и двумя орудиями, наведёнными на мост. Однако пиар-менеджер гарантировал невмешательство сил охраны правопорядка, и Вагин верил своему нанимателю, ведь верить было больше некому.
Собравшиеся захлопали, одобрительно засвистели, провожая коновала Гнидко, ударно отжегшего под конец речи. Павел взбежал на трибуну. Его била дрожь, но молодой агитатор старательно загнал её внутрь, расслабив плечи, чтобы не зажиматься и не показывать, как его на самом деле колотит. Он репетировал речь перед зеркалом. Он хорошо помнил, что надо говорить, он много раз повторял, но в тёмной хибаре было совсем не так, как на открытой местности, при свете дня и при всеобщем внимании. Казалось, все ждали его позора.