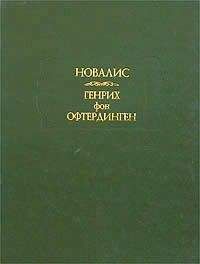Новалис
Генрих фон Офтердинген
Меня ты побудила заглянуть
В такие задушевные глубины,
Что мне страшиться в бурю нет причины:
Твоей рукой указан верный путь.
К тебе младенцу сладко было льнуть,
Узрев твои волшебные долины;
В тебе одной все женщины едины:
Высокий твой порыв томит мне грудь.
Пускай земная жизнь ко мне сурова,
Твоим останусь в горести любой,
И песня музе ввериться готова.
Искусству, вдохновленному тобой,
Здесь, на земле, другого нет покрова;
Мой тихий ангел, будь моей судьбой!
* * *
Таинственно поэзия целит
Нас всех преображеньем бесконечным;
Там награждает муза миром вечным,
Здесь юностью блаженной веселит.
В зеницы свет поэзии пролит;
Нас просветив искусством безупречным,
Отрадная, усталым и беспечным
Для сердца хмель божественный сулит.
Обильным лоном сладостно вскормленный,
Всем существом обязан ей вполне,
Воспрянул я, пространством окрыленный.
Мой высший дух дремал еще во мне.
Меня возносит ангел благосклонный,
Открыв объятья в горней вышине.
Отец с матерью уже спали, слышался однозвучный ход стенных часов, в ставни со свистом стучал ветер, неяркий свет месяца чередовался в комнате с темнотой. Юноша не находил покоя на своем ложе, странник вспоминался ему[1] и то, что поведал странник. «Нет, не клады пробудили во мне столь несказанное влечение, — говорил себе юноша. — Я далек от корысти: по голубому цветку я тоскую, увидеть бы мне только голубой цветок[2]. Мои помыслы с ним неразлучны, о чем еще мне думать и мечтать! Впервые со мною творится такое: словно до сих пор я грезил или во сне обрел иной мир, ибо в мире, для меня привычном, кого беспокоили бы цветы, а уж о том, чтобы какой-нибудь чудак цветком прельстился, и помину не было. Да и откуда, кстати, этот пришелец?
Он ведь не из наших, на наших не похож, и невдомек мне, почему меня одного так зачаровали его речи; не я один его слушал, а больше никому ничего такого не попритчилось. Что за диво: этого даже высказать невозможно. То и дело я в каком-то блаженном восторге, и лишь тогда, когда цветок скрывается от меня, я в смятении, в глубоком внутреннем смятении, которого не с кем разделить мне. Я бы счел себя безумным, но я теперь лучше вижу, проницательней мыслю, давно знакомое мне теперь как бы открывается. Рассказывают, будто в старину звери, деревья и скалы говорили с людьми. Они, сдается мне, вот-вот опять начнут, и по ним я угадываю, что я услышал бы от них. Судя по всему, многие слова мне еще неведомы: знал бы я побольше, мне все было бы понятнее. Раньше мне нравилось танцевать, теперь мне больше нравится размышлять под музыку». И юноша потерялся в сладостных мечтаниях, погрузившись наконец в сон. Сперва пригрезились ему необозримые дали, глухая пустынная чужбина. Он преодолевал моря, сам не зная как, невиданных чудовищ видел он; с разными людьми переживал то войну, то буйную смуту. Он изведал плен и постыднейшую нищету. Все чувствования обострились в нем сверх всякого вероятия. Он испытал бесконечную переменчивость судьбы, умер, вернулся к жизни, любил высочайшей, страстной любовью и снова навеки был разлучен со своей любимой. Только под утро, когда за окном забрезжило, на душе прояснилось, видения стали отчетливее и длительнее. Он как будто блуждал, одинокий, в дремучем лесу. Лишь кое-где зеленая сеть пропускала дневной свет. Вскоре перед ним оказалась расселина горы, ведущая ввысь. Взобраться можно было только по замшелым камням, которые выворотил наверху и оставил на своем пути прежний поток. Лес редел, чем выше, тем заметнее.
Наконец юноша добрался до луговины на горном склоне. Еще выше путь преграждала круча, однако снизу виднелся как бы проем и начало хода, прорубленного в сплошной толще. Ход, позволяя идти без всяких затруднений, расширялся впереди, так что сияние издалека лилось навстречу путнику. Вступив в это сияние, он увидел как бы ключ, откуда бьет неудержимый поток света, достигая свода и там дробясь неисчислимыми, огнецветными брызгами, сыплющимися вниз и скапливающимися в большой чаше, вернее, в озере; свет отливал пламенеющим золотом; все это совершалось бесшумно, благоговейная тишина облекала торжественное действо. Он остановился над озером, подернутым непрерывной, многоцветной, трепетной зыбью. Стены пещеры были увлажнены теми же брызгами, скорее студеными, чем жгучими, так что по стенам струился голубоватый отсвет. Окунув руку в озеро, он поднес ладонь к своим губам. Словно некий дух овеял все его существо отрадной бодрящей свежестью. Он желал неодолимо, он вожделел омовения и, раздевшись, погрузился в озеро. Небесное чувствование переполнило его душу, как будто вечерняя заря омывала его своим облаком, бесчисленные мысли стремились в нем блаженно сочетаться; небывалые неведомые образы зарождались в нем, сливались и, уже зримые, носились вокруг него; и волны упоительной стихии, как нежные перси, приникали к нему. Казалось, в потоке растворены девичьи прелести, услаждающие на миг своей телесностью, стоит им соприкоснуться с юношей.
В упоении не утратил он, однако, чуткой восприимчивости; ему было легко и привольно, течение уносило его из озера в глубь скалы. Им овладело сладостное забытье, ему грезились неописуемые события, пока освещение не переменилось, разбудив его. Осмотревшись, увидел он, что лежит на мягкой траве около другого ключа, бьющего в воздух, чтобы в воздухе расточить себя. Темно-голубые утесы с разноцветными прожилками высились неподалеку; день, царивший вокруг, был светлее обычного дня, но свет был менее резким; ни облачка на черно-голубом небосводе. Ничто, однако, не влекло его с такой силой, как высокий светло-голубой цветок с большими, сверкающими листьями, окропленными родником. Вокруг пестрело неисчислимое множество других цветов, насыщавших воздух чудным запахом. Но, ничего не замечая, с неизреченной нежностью созерцал он лишь голубой цветок. Он вознамерился было подойти к цветку, когда цветок затрепетал и начал преображаться, листья засверкали ярче и прильнули к стеблю, удлинявшемуся на глазах, и цветок стал клониться к юноше, и над лепестками, как над голубым воротничком, возникли нежные черты. Изумляясь все более, он блаженно созерцал это дивное преображение, пока голос матери не прервал его сна и не увидел он, что комната в родительском доме, где он находится, вся залита золотым утренним солнцем. Он был слишком восхищен для того, чтобы роптать на помеху; напротив, он ласково пожелал матери доброго утра, отвечая на ее сердечное объятие.
— Вот сонливец, — молвил отец[3], — сколько времени я здесь просидел уже с напильником; молотка мне нельзя было и в руки взять, мать не велела, пусть, мол, дорогой сыночек выспится. Да и завтрака пришлось подождать. Ты знал, что делал, когда выбирал себе ремесло ученого; выходит, мы бодрствуем и работаем ради науки. Правда, дельному ученому, как я слышал, тоже спать некогда, и дня ему мало, если он хочет освоить великое наследие мудрецов.
— Дорогой отец, — ответил Генрих, — не надо корить меня долгим сном, вы сами знаете, что я никогда не грешил сонливостью. Лишь поздно ночью удалось мне заснуть, к тому же беспокойные сновиденья одолевали меня, пока наконец не посетило меня отрадное сновиденье; так или иначе мне долго не забыть его.
— Генрих, дорогой мой, — проговорила мать, — ты, наверное, лежал навзничь, или неуместные мысли отвлекли тебя от вечерней молитвы. И сейчас ты выглядишь не как всегда. Пора тебе подкрепиться.
Когда мать ушла, отец, работая по-прежнему тщательно, произнес:
— Сны не верны, вольно господам ученым толковать их и так и эдак; не худо бы тебе отстать от этих праздных и пагубных бредней. Это в былые времена божественные виденья посещали человека, подобно снам, что для нас непостижимо; мы в толк не возьмем, каково было мужам богоизбранным, о которых повествует Библия. Тогда по-другому обстояло дело и со сновиденьями, не только с человеческими начинаниями.
В нашем веке мир не таков, и нам самим больше не дано сноситься с небом без посредников. Когда нужно постигнуть горнее, мы удовольствуемся старинными преданьями да писаньями, других источников нет; Дух Святой теперь нас не удостаивает явных откровений, он вещает через разумение, дарованное мужам рассудительным и благомыслящим, через жития праведников, наставляющих нас участью своей и примером. А нынешние чудотворные образы мало что дали мне, и я не очень-то верю в те великие деяния, которые приписывает им наше духовенство. Впрочем, если кто-нибудь ищет наставления в них, пусть ищет; не подобает мне ставить в тупик благочестивую доверчивость.