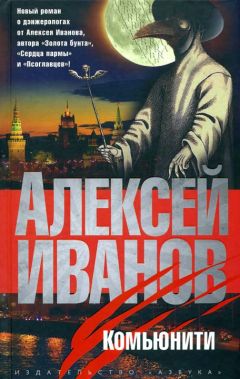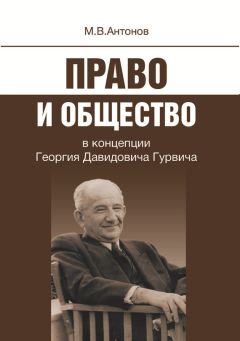Ещё Чёрная Смерть характеризовалась истеричным поведением заражённых. Очевидцы описывали чумные города, где в окнах домов орали и кривлялись потерявшие разум люди. При обычной чуме такого не бывает. С того времени появилось выражение «чумовой» или «очумелый» — то есть тот, кто кричит, суетится, размахивает руками.
Разгадывая эти загадки, французский эпидемиолог Дидье Рауль в 1997 году вскрыл во Франции два чумных рва 1350 года и из останков выделил ДНК вируса. Всё-таки Чёрная Смерть оказалась чумой.
Кабуча жила в Митино, в панельных высотках спальных районов. Глеб свернул с Пятницкого шоссе на проезд вглубь квартала, и Кабуча указала, где остановиться.
— Подождёшь, пока я на флэт залечу? — Кабуча рылась в сумочке, отыскивая ключи. — Дудонят, что появился новый митинский маньяк.
— Подожду.
— Вот эта бздэма ёбская… — Кабуча с трудом вытащила длинную гроздь ключей и брелоков. — Бля-а… Я тебе на трубку смайлик сброшу.
— О’кей.
Кабуча наклонилась через подлокотник и чмокнула Глеба в скулу.
— Хороший ты ышник, Глеба, — шепнула она и, не слушая ответа, сразу выскочила из машины.
Глеб сидел, ждал, смотрел по сторонам. В холодной и плотной тьме ноября россыпи горящих окон выявляли объёмы домов-башен. В лобовом стекле машины Глеба эти объёмы постепенно расплывались цветными пятнами, но вдруг оживала тонкая лапка дворника, протирала стекло и возвращала высоткам чёткость очертаний.
Сейчас Кабуча поднимается в лифте и боится, что на тёмной площадке у дверей на неё нападёт маньяк. Что ж, в огромной Москве случается всё, что может случиться, и происходит всё, что должно. Сколько детишек сейчас заплакали в постелях оттого, что в темноте им внезапно открылся ужас собственной бренности? Сколько девушек закричало в этом мраке от боли, теряя девственность? Сколько стариков, лежащих на кроватях, потянулись к настольным лампам, ощутив, что ноги отяжелели и похолодели, — значит, наступает смерть.
Айфон мелодично булькнул — это прилетела SMS Кабучи. Жёлтый смайлик: рожица тёрла глаза кулачком и махала рукой, прощаясь.
Глеб тронул машину и порулил к выезду.
Похоже, на него чересчур сильное впечатление произвела статья о Чёрной Смерти… Чернота и тьма всегда означали гнетущую тяжесть вечных вопросов, обречённость на печаль, неизбывные горести жизни. Глеб о них знал и помнил, но не хотел думать про всё про это. Придёт время — и нахлобучит каждого, значит, незачем сейчас горевать по тому поводу, по которому неизбежно придётся горевать позже.
Свет — единственное спасение от этой тьмы с её бестактными и навязчивыми напоминаниями. Как-то, кажется, в «Афише» Глеб видел картинку ночного освещения планеты Земля. Оказалось, не густо. В России — две лужицы на месте Москвы и Питера, несколько звёздочек областных городов, каёмка черноморского берега и поясок Транссиба. Всё. А вокруг — огромные пространства без огней, как без людей.
Эти освещённые зоны — единственно пригодные для жизни. Здесь тебя не будут обливать мрачными истинами, которые и так давным-давно известны. Здесь тебе не испортят настроение. Здесь общество потребления. Из этих зон изгоняется реальный мир. От него и так всюду невпротык, нужно же хоть где-то перевести дыхание. В любом большом городе России Глеб мог бы найти такую вот зону света, зону свободы от реальности, но везде он ощущал бы эту зону как остров. А какая же свобода, если ты на острове?
Ощущения острова не было только в Москве. Москва жлобская и скотская, она остоебенила своими проблемами, но она — не остров. Потому Глеб и прорвался сюда. По образованию он был филолог, учился хорошо, на память никогда не жаловался и формулировал предельно точно: он был немолодым хипстером в Москве, ибо не хотел жить с зубной болью, которая называется экзистенция.
Он выехал на Волоколамское шоссе и поднырнул под бетонную реку МКАДа, по которой катились волны огней. После размашистых виражей развязки слева показалась церковка: зазубренный поверху краснокирпичный объём и фигурная колокольня с куполом. Храм был подсвечен, и чудилось, что он стоит в каком-то гроте, в пещерке.
Глеб подумал, что в своём стремлении прорваться в Москву он не случайно отыскал работу именно в «ДиКСи». Он хотел находиться в обществе потребления. В освещённые зоны общества потребления не пускают реальный мир, как бомжей на улицу Кузнецкий Мост. А «ДиКСи» не допускает к пользователям нежелательную информацию. Напрасно на том эфире у Глеба Гурвич орал, что «ДиКСи» — информационный коммунизм: «каждому, бля, по потребностям». Да, конечно. Но «ДиКСи» — в первую очередь девайс консюмеризма, а не коммунизма. Этот портал — орудие информационного потребления мира. И судьба мудро приставила Глеба туда, куда он стремился. Ему, филологу, не в банке же работать. Не в Газпроме. И не в бутике Christian Louboutin.
Волоколамское шоссе влилось в Ленинградку. Напротив двойного павильона метро «Сокол», который круглыми плечиками раздвинул громады жилых девятиэтажек, Глебу пришлось затормозить. Вся Ленинградка впереди тлела алыми углями вставшего потока. И вдруг Глебу показалось, что на заднем сиденье у него кто-то сидит.
«Лексус» Глеба был зажат с обеих сторон другими автомобилями, никто не мог в него проникнуть. Но и выбраться Глеб тоже не сумел бы, и это почему-то пришло в голову в первую очередь. Если бы кто-то залез в машину, Глеб, пристёгнутый ремнём, оказался бы в полной власти у незваного гостя. Глеб глянул в зеркало: сзади никого не было. На полке за спинкой дивана валялся номер «GQ» с Томом Фордом и голыми девичьими попками на обложке, вот и всё.
Глеб начал напряжённо всматриваться в корму стоящего впереди «вольво-седана». Он старался разобрать номер, заляпанный грязью, словно этот номер нужно было знать для поиска свидетеля, но на самом деле Глеб прислушивался. Мягко фырчал мотор, гудел кондишн, снаружи доносились невнятные звуки толпы у метро, далёкие гудки.
Сзади кто-то дышал. Очень тихо. Нет, это не дыхание… Это стук сердца. В машине, запертой в пробке, в пустом салоне стучит чьё-то сердце. Или Глеб слышит своё сердцебиение?.. Глеб положил ладонь себе на грудь, будто хотел заглушить пульс. В голове вертелись какие-то нелепые слова из песни времён его юношеской любви к советскому говнороку: «Затрубит во мраке сердце, я бегу к тебе, бегу и бегу…»
Почему сердце «затрубит»? Что за дурацкое слово, дурацкое, страшное, страшное… Почему сердце во мраке? А что, раньше оно не стучало? А теперь вдруг затрубило — мёртвое?.. Это песня «Сержант Бертран». Какой-то французский некрофил, он трахал покойников, а потом их полуразложившиеся тела резал на куски. «С каждой ночью лучше пахнешь, лучше таешь, это просто шарман…» Глеб отстегнул ремень и навалился животом на подлокотник, разглядывая через просвет между передними креслами задний диван. Конечно никого!
Снаружи заквакали сигналы: поток тронулся, Глеба подгоняли.
Глеб поехал, и сразу его окатило облегчением, хотя в зеркало Глеб увидел, как у номера «GQ» на задней полке вдруг перевернуло обложку, а потом начало медленно листать страницы, будто какой-то невидимка просматривал журнал от скуки. Но это уже не было страшно. Наверное, журнал ворошило ветерком от кондишна.
Слева проплыли ярко освещённые изнутри арки вестибюля метро «Аэропорт», а потом, за неоновой панелью гостиницы, движение опять замедлилось, и наконец Глеб вместе со всем проспектом остановился, имея перед собой роскошный и открыточный вид на Путевой дворец. Башни, стены флигелей и стрельчатые окна дворца были высвечены прожекторами, а плоский купол повис в темноте, как парашют.
Невидимка, что ехал на заднем диване, утихомирился, и Глеб закурил, пережидая затор. Красно-бело-золотые готические кружева дворца как-то примиряли с потерей времени. Пёстрая и карамельная эффектность Москвы была карнавальной, сказочной, невинной.
Рядом с машиной Глеба, почти вплотную, в крайнем левом ряду стояла и тарахтела чудовищная «девятка» с тонированными стёклами. Глеб смотрел, как у неё дрожит крышка капота и по крышке ползёт грязная снежная россыпь. Вдруг чёрная блестящая пластина окна «девятки» толчками поехала вниз, и Глеб увидел в салоне колымаги на правом переднем месте старуху в меховом картузе.
Старуха наклонилась, с трудом высунула левую руку из своего окошка и постучала пальцем в стекло дверки возле Глеба. Белый, треснувший пополам ноготь старухи цокал, словно пластмассовый.
Глеб нехотя нажал на клавишу и приспустил своё стекло.
— Что вы хотите? — спросил он в щель.
Старуха, виновато улыбаясь, что-то ответила. Глеб не услышал и опустил стекло до конца.
— Что вы хотите? — повторил он.
— Сынок, — ласково сказала старуха, — пока стоим, сынок, дашь сто пиисят, если отсосу?