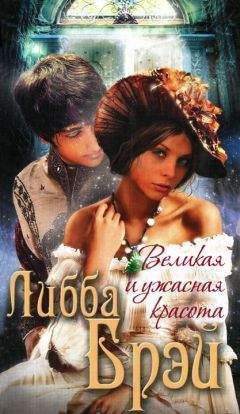— А правда ли, как я слышала, что мне не обязательно переходить на другую сторону? Что есть и другие места, где я могла бы жить?
Глаза у нее огромные, отчаянная надежда смешивается со страхом.
— Это правда, — отвечаю я. — Но всему есть своя цена. Ничто не дается просто так.
— Но что будет со мной, когда я перейду реку?
— Не знаю. И никто не знает.
— Ох, а вы мне не подскажете, какую дорогу выбрать? Пожалуйста!
Ее глаза наполняются слезами.
— Это все так трудно…
— Да, трудно, — подтверждаю я, сжимая ее руку, потому что это все, что я могу сделать.
В конце концов она решает уйти — но только если я провожу ее через реку на корабле, который ведет горгона. Для меня это первое путешествие такого рода, сердце отчаянно колотится. Мне хочется знать, что лежит по другую сторону того, что я уже видела. Чем ближе мы подходим к дальнему берегу, тем ярче он светится, и мне приходится отвернуться. Я слышу лишь понимающий вздох девушки. Я чувствую, что корабль стал легче, и осознаю, что она ушла.
Мы возвращаемся обратно, у меня тяжело на сердце. В мягком плеске волн мне слышатся имена тех, кто потерян: моей матушки, Амара, Каролины, матери Елены, мисс Мур, мисс Мак-Клити… и еще я потеряла часть самой себя, которую не вернуть.
Картик. Я резко моргаю, стараясь подавить слезы.
— Почему все должно кончаться? — тихо спрашиваю я.
— Наши дни сочтены в книге судеб, высокая госпожа, — негромко отвечает горгона; впереди виден сад. — Именно это придает им такую сладость и смысл.
Когда мы возвращаемся в сад, в оливковой роще дует легкий ветерок. Он приносит аромат мирра. Ко мне приближается мать Елена; на ее белой блузке ярко светится медальон.
— Мне бы теперь хотелось увидеть мою Каролину, — говорит она.
— Каролина ждет тебя на другой стороне реки, — отвечаю я.
Мать Елена улыбается мне.
— Ты неплохо поработала.
Она прижимает ладонь к моей щеке и что-то говорит по-цыгански; я не понимаю ее слов.
— Это что, благословение?
— Я всего лишь сказала: мир ждет тех, кто готов его увидеть.
Корабль покачивается на волнах, готовый переправить мать Елену через реку. Она напевает что-то вроде колыбельной. Свет окутывает старую цыганку таким сиянием, что скоро я уже не понимаю, где свет, а где она. А потом она исчезает.
«Мир ждет тех, кто готов его увидеть». Мне кажется, за этими словами кроется нечто большее. А возможно, так оно и есть.
Возможно, это надежда.
Мне приходится подождать некоторое время, чтобы поговорить с миссис Найтуинг наедине. В пять минут четвертого дверь ее кабинета распахивается, позволяя мне войти в убежище нашей директрисы. Я вспоминаю тот день, когда впервые приехала в школу Спенс, в черном траурном платье, убитая горем, не имея ни единого друга в целом мире. Как много случилось всякого с тех пор…
Миссис Найтуинг складывает руки перед собой на письменном столе и пристально смотрит на меня поверх очков.
— Вы хотели о чем-то поговорить со мной, мисс Дойл?
Старая добрая Найтуинг, такая же неизменная и надежная, как сама Англия…
— Да, — киваю я.
— Ну, я очень надеюсь, что вы не займете у меня слишком много времени. Мне необходимо заменить двух учительниц, поскольку мадемуазель Лефарж выходит замуж, а мисс Мак-Клити… Сахира…
Миссис Найтуинг умолкает. Ее глаза краснеют.
— Мне очень жаль, — тихо говорю я.
Она прикрывает глаза, губы чуть заметно дрожат. А потом все проходит, как уносится темное облако, лишь грозившее дождем.
— Так чего же вы хотели, мисс Дойл?
— Я была бы весьма благодарна вам за помощь в том, что касается сфер, — говорю я, выпрямляясь.
Щеки миссис Найтуинг заливаются самым настоящим румянцем.
— Я не представляю, какого рода помощь я могла бы вам предложить.
— Мне нужно, чтобы кто-то присматривал за дверью и охранял ее, когда я уеду.
Она кивает.
— Да. Безусловно.
Я осторожно откашливаюсь.
— И вы можете сделать еще кое-что. Это касается школы. И девушек.
Директриса вскидывает бровь, и я чувствую себя как под ружейным прицелом.
— Вы могли бы дать им настоящее образование. Вы могли бы научить их думать самостоятельно.
Миссис Найтуинг словно каменеет, живут только глаза, и они подозрительно прищуриваются.
— Вы ведь шутите?
— Напротив, я никогда не была более серьезной.
— О, да, их матери придут в восторг, услышав подобное! — ворчит миссис Найтуинг. — Можно не сомневаться, они наперегонки бросятся в нашу школу!
Я грохаю кулаком по письменному столу, заставляя подпрыгнуть чайную чашку и саму миссис Найтуинг.
— Да почему девушки не могут пользоваться такими же правами, как мужчины? Почему мы должны так сурово себя ограничивать? Почему должны постоянно осаживать друг друга, не давая сказать ничего серьезного, и постоянно путаться в страхах, стыде, тайных желаниях? Если мы сами не будем считать себя достойными лучшего, разве мы можем ожидать чего-то от жизни? Я ведь уже видела, на что способны всего несколько девушек, миссис Найтуинг. Они могут в случае необходимости заставить отступить целую армию, так что, уж пожалуйста, не говорите мне, что это невозможно! На пороге — новый век. Так что наверняка мы могли бы отказаться от нескольких вышивок в пользу лишней книги и более серьезных идей.
Миссис Найтуинг сидит так неподвижно, что я пугаюсь: не остановилось ли ее сердце от моего взрыва? Наконец она открывает рот, но ее обычно властный голос звучит как неуверенный скрип:
— Я тогда потеряю всех учениц, они уйдут в школу мисс Пеннингтон.
Я вздыхаю.
— Нет, не потеряете. К ней уйдут только самые безмозглые.
— Весьма невежливо, мисс Дойл, — выговаривает мне миссис Найтуинг.
Она аккуратно поправляет чайную чашку, чтобы та стояла ровно в центре блюдца.
— А вы? Вы отказываетесь от светского сезона ради американского университета. Вы действительно готовы повернуться спиной ко всем привилегиям и достоинствам светской жизни?
Я думаю обо всех леди в тесных корсетах и с напряженными улыбками, заглушающих голод слабым чаем, изо всех сил старающихся уложить себя в рамки такого тесного мирка, отчаянно боящихся, что с их глаз соскользнут шоры и они увидят то, что предпочитают не видеть.
— Привилегии — не всегда достоинства, — говорю я.
Миссис Найтуинг осторожно кивает.
— Я готова помочь вам, как могу, со сферами. Можете на меня положиться. Что касается всего остального, то это требует куда более серьезных размышлений, и пока я к ним не готова. В небе светит солнце, и у меня на руках школа, полная девушек, ожидающих от меня наставлений и заботы. У меня есть обязанности, есть долг. Вы хотели поговорить о чем-то еще или это все?
— Это все. Искренне вас благодарю, миссис Найтуинг.
— Лилиан, — говорит она так тихо, что я едва ее слышу.
— Спасибо вам… Лилиан, — повторяю я, пробуя на язык вкус ее имени, как вкус экзотического соуса.
— Не за что, Джемма.
Она перекладывает какие-то бумаги на столе, прижимает их серебряной шкатулкой, но тут же снова передвигает на другое место.
— Вы еще здесь?
— Ну да, — бормочу я, быстро вставая.
Спеша к двери, я чуть не налетаю на стул.
— А что это вы говорили насчет школы мисс Пеннингтон? — спрашивает миссис Найтуинг.
— Только самые безмозглые уйдут к Пенни.
Директриса кивает.
— Ну да, это то самое слово. Ладно. Хорошего вам дня.
— Хорошего дня.
Она не поднимает глаз, не провожает меня взглядом. Я успеваю сделать лишь пару шагов, когда слышу, как она повторяет: «Только самые безмозглые уйдут к Пенни». И за этим следует невероятно странный звук, он начинается низко и тут же набирает высоту. Это смех… Нет, не смех, хихиканье. Это искреннее хихиканье, веселое и озорное, доказывающее, что мы никогда полностью не утрачиваем детства, какими бы женщинами мы ни стали.
На следующий день рассвет приходит розовый и полный надежд, он нежно обещает перейти в великолепный день конца весны. Раскинувшиеся позади школы Спенс зеленые луга оживают, взрываясь гиацинтами и какими-то яркими желтыми цветами. Воздух напоен ароматами сирени и роз. Аромат густой, плотный. От него у меня щекочет в носу, голова становится легкой. Над голубым горизонтом лениво клубятся облака. Мне кажется, я никогда не видела более чудесного пейзажа, даже в сферах. Мадемуазель Лефарж выпал для венчания удивительный денек.
Добрых полчаса перед венчанием мы с Фелисити проводим в саду, в последний раз вместе собирая цветы. Фелисити рассказывает о брючном костюме, который она клянется сразу же заказать в Париже.
— Ты только подумай, Джемма! Никогда больше не надевать все это ужасное белье и корсет! Это настоящая свобода! — говорит она, резко срывая маргаритку как бы для того, чтобы подчеркнуть свои слова.
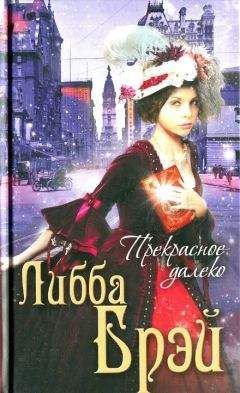

![Сандра Салманс - Боль в спине [Вопросы и ответы]](https://cdn.my-library.info/books/198001/198001.jpg)