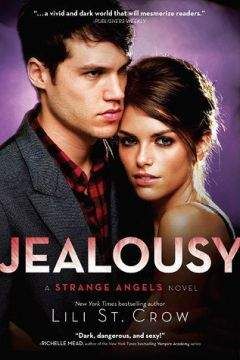Деревья теснились вокруг Школы, подступая к самым стенам. Среди оголенных черных ветвей виднелись грязно-белые клочья снега. Я принюхалась — для тумана запах слишком уж рыхлый, с неприятным сухим привкусом змеиной кожи. А холодно не только из-за погоды. Стылая тяжесть давила на кожу, проникала в сердце и пробиралась в кости.
Я перепрыгнула через последние три ступеньки и жестко приземлилась на дорожку — под ногами хрустнул гравий. Чуть не упала, но уверенно, как балерина, выпрямилась и кинулась вдогонку за совой. Вот сад — наверное, весной здесь красиво. Теперь же лед обрамлял прямоугольные клумбы и свешивался сосульками с погруженных в туман ветвей. Это была восточная часть комплекса зданий, из которых состояла Школа. И как я, черт возьми, здесь оказалась?
Вдруг, словно второе сердце, где-то внутри меня бешено забилась паника. Страх проникал в тело. Теперь я точно знала: должно случиться что-то ужасное. И надеялась, что вовремя получила предупреждение и смогу убежать.
За садом начинался уклон вниз, к реке. Извилистая мощеная тропинка вела к старому сараю для лодок, сгорбившемуся над посеребренной луной гладью воды. Полумесяц проливал свет на серо-белый пейзаж, напоминающий ледяную скульптуру в лохмотьях из пропитанной маслом шерсти. Туман протягивал к Школе свои длинные, жилистые пальцы.
На середине склона тут и там росли молодые деревца и кусты — предвестники леса. Потом большие, украшенные ледяными гирляндами деревья, черные и плотные, несмотря на свою наготу. Сова взлетела высоко вверх и, описав надо мной круг, рванулась вперед, вниз по склону холма, в сторону от мощеной тропинки к чернильно-черной громаде деревьев.
От усталости я дышала хрипло, рывками — почти каркала. Я бежала, а сова возвращалась, будто подгоняя меня. Она снова сделала круг над головой, и я вспомнила слова бабушки. Это мудрая птица, которая машет крыльями так, что даже мышь ее не слышит, Дрю. Это мудрая птица, которая прячется, даже когда кругом тихо. Пока ты смотришь вниз, на тебя могут напасть сверху.
В первый раз я увидела сову на окне бабушкиной больничной палаты в ночь, когда бабушки не стало. С тех пор я никому об этом не говорила. Знал только папа, но он…
Перестань думать и беги дальше.
На этот раз папин голос, тихий и обеспокоенный. Теперь их голоса звучали только в моем воображении. С ними было не так одиноко. Но все равно очень грустно.
Я постаралась увеличить скорость, но вязкая масса, в которую превратился мир, уже застывала. Сердце стучало о грудную клетку, подскакивая до горла, колотилось на запястьях и в глазах, словно пытаясь вырваться на свободу.
Мир, как резиновая лента, с тихим хлопком вернулся к обычной скорости, и я рванула вперед, как будто огромная теплая рука ударила по мне, как по мячу для поло.
Чуть не упав, я сохранила равновесие и перескочила через последнюю клумбу. В сознание снова ворвался звук — треск льда, хруст гравия, глухое шлепанье моих кроссовок о мерзлую землю, хриплое дыхание и…
Позади меня тихие шаги и холодящий душу вой, приглушенный странно мерцающим туманом. Во рту снова привкус гнилых апельсинов — не сплюнешь, да я бы и не стала. Теперь я была уверена — происходит что-то страшное.
Я бежала к роще так, словно от этого зависела моя жизнь. Глубоко в душе я знала — так и есть.
Ветки стегали меня по лицу и рукам. Я перепрыгнула через ствол поваленного дерева и упала на кучу листвы. Подгнившие мокрые листья чавкнули под ладонями. Тьму прорезали лишь тонкие, словно замороженные лучи лунного света. С трудом поднявшись на ноги, я помчалась дальше, увертываясь от наползающего тумана. Медальон леденил грудь.
Позади снова послышался вой, поднявшийся до самого неба, — звонкий, как звук бьющегося стекла, и режущий, как острие бритвы. Он проникал в сознание и наполнял мозг.
Они обнаружили мой след. Я не думала, кто это «они», и не понимала, почему была уверена, что они напали на мой след. Я просто… знала. Так же, как все знают, как дышать, или отдергивать руку от горячей плиты. Так же, как я знала, что нужно уворачиваться от тонких струек пара, исходящих от земли.
А еще я знала, что нельзя останавливаться. Даже если буду падать.
Спотыкаясь, я бежала дальше. Бесстрастный совиный крик «у-у! у-у!» метался между деревьями, отскакивая от заледеневшей коры. По усыпанной листвой земле вела узкая тропинка. Пробив тонкий слой льда на глубокой луже, я охнула — ледяная вода залила ноги по щиколотки. Я прыгнула, плохо приземлилась, едва не подвернув ногу, и, прихрамывая, поспешила вперед. Сова звала: «Скорее, Дрю! Скорее!».
И снова нечеловеческий крик прорезал ночь и словно впился мне в мозг острыми, как бритва, когтями. Я вскрикнула, тихо и жалобно, и, спотыкаясь, побежала прочь. Руками я сжимала голову, пока боль не оборвалась вместе с воем — будто щелкнули выключателем.
Что это, черт возьми? Но у меня не было времени на выяснения. Мысленно я собрала себя в кулак, как учила бабушка. И когда тьму снова взорвал вой — он несся откуда-то слева, издалека — он уже не раздирал мне мозг. Только пробежался по коже проволочной щеткой, смоченной в кислоте. Если бы я не толкала себя все дальше и дальше, то, наверное, сама взвыла бы — от ужаса и боли.
Вот каково оно — попасть в Истинный мир. Как только ты тут оказался, уже невозможно отгородиться от него или повернуть назад — к жизни с девяти до пяти, когда светло. Тебе придется бежать ночью через лес, спасаясь от жутких тварей и рискуя сломать ногу или свернуть шею.
Тропинка сузилась, а потом и вовсе исчезла, как все ложные пути в лесу. Идешь, и кажется, что дорожка ведет назад, в знакомые места, тут же отпрыгиваешь в сторону, чтобы увернуться от настигающего тебя тумана, попадаешь в дружеские объятия терновых кустов и думаешь: что за черт…
И когда бежишь, спасая собственную шкуру, не жди от кустов дружеских чувств. Они разрывают шипами одежду, царапают кожу… А когда, наконец, продерешься сквозь них на свободу, шаги, что стучали позади, успевают приблизиться. И настолько, что слышно каждое движение тела, хруст веток, чавканье грязи — это они скачут… И скачут они выше и быстрее любого человека.
Бабушкина сова пропала из виду. Я упала, опутанная колючими ветками, не в силах сдержать хриплое дыхание. Легкие горели, сердце стучало — вот-вот выпрыгнет наружу, разорвав мне грудь. Но я старалась лежать тихо. Кусты трещали, шипы скребли одежду. Один попал мне по щеке. Хотелось закрыть глаза, но в темном лесу с закрытыми глазами — какой толк. Теперь даже туман издавал звуки — тихое скрежетание, как рыбья чешуя по стеклу. Прижатое к земле бедро занемело. Сырость пропитала джинсы и свитер. Перед лицом стояло облако — это мое дыхание, прозрачное и дрожащее.
Вокруг слышались шаги — двое неизвестных ходили друг за другом. Я все-таки зажмурила глаза — и снова открыла. Несколько шипов вонзилось мне в спину через свитер. Кроссовки промокли насквозь, ноги так замерзли, что я их почти не чувствовала.
Треск сломанных веток. Лунные лучи струились сквозь тьму, кружась перед моими изголодавшимися по свету глазами. Вязкий белый туман подползал ближе, ощупывая пространство между деревьями и с тихим жутким шелестом набегая потоками на покрытые инеем опавшие листья.
За треском и шелестом мне почудилось движение, но я не могла понять, с какой стороны, и сжала зубы, чтобы не закричать от беспомощности. Сглотнула слюну. Туман подползал все ближе, задевая листья белыми лохмотьями, — словно тощими когтистыми пальцами скреб лесной ковер.
В поле зрения что-то шевельнулось. И сейчас же картинка стала четкой и ясной, будто навели на фокус. Ночью легче увидеть то, что движется. Хуже, если это что-то остановится и замрет. Я разглядела белое неровное пятно на макушке движущейся фигуры. Шерсть придавала размытость контурам. С грацией вервольфа существо отступило в сторону от струи белого тумана.
Я знала только одного белоголового вервольфа, и с ним я уже имела дело. Я тогда выстрелила ему два раза в челюсть, но он успел укусить Грейвса. Кристоф тоже стрелял в него, прямо из папиного грузовика. Это фаворит Сергея — вервольф со сломленной волей, во всем покорный хозяину.
Не шоколада же он мне пришел предлагать.
Черт. Это Пепел! Я втянула в себя немного воздуха — легкие вот-вот взорвались бы. Я лежала тихо, но вдруг запершило в горле — захотелось прокашляться. Вот так всегда. Надо затаиться, а тут как назло хочется кашлять или чихать. Это организм издевается, хотя знает, что заткнуться и не отсвечивать — единственный способ выжить.
Пепел остановился и стал нюхать воздух. В горле защекотало сильнее. Оборотень наклонил набок худую вытянутую морду, молча отступил в сторону и снова застыл. Туман раболепно уползал от него.