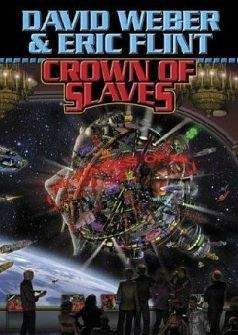Она справится и сейчас. Справится, как всегда. Шок и гламур — ее новые имена. Она почти улыбнулась. Даже в толще каменной тюрьмы она чувствовала на губах сладкий вкус прежней жизни — деньги, слава, а проблемы вызваны ее стремлением к свободе. Только долго ли, спросила она себя, долго ли она продержится, пока чокнутые похитители и ее сведут с ума?
Гидеон добрался до последних двух записей.
Он просмотрел почти сорок и, вопреки бушевавшей в душе буре, твердо решил не выключать, пока не досмотрит до конца.
Он вставил кассету в плеер и взглянул на появившегося на экране отца. Молодой профессор выглядел немногим старше, чем Гидеон сейчас. Через несколько секунд над камерой послышался голос Мэри Чейз:
«По-моему, работает, Нат. Да, горит красный огонек. Можешь начинать».
Натаниэль вздохнул и пригладил взъерошенную ветром прядь. На нем были куртка из толстого синего флиса, темные брюки и дорожные сапоги. Фон был слишком знаком Гидеону. Стоунхендж.
«Я уведу вас в прошлое почти на пять тысяч лет, — объявил профессор, обводя рукой вид. — В дни, когда наши предки копали рвы по кругу около трехсот метров в диаметре, шириной в двадцать и глубиной в семь футов. — Он присел на корточки и провел ладонью по складке земли на месте древнего рва. — Здесь под землей археологи нашли кости животных, умерших за двести лет до того, как были выкопаны рвы. Зачем их сносили сюда наши предки? Зачем выкладывали новые рвы грудами старых костей? Ответ ясен: эти кости были особой жертвой новым богам».
Гидеон улыбнулся. Он знал, как любил его отец оживлять скучные университетские лекции собственными любительскими съемками. Молодой профессор на экране отошел от рва и направился к полукругу камней, излагая новую теорию, объясняющую открытие на этом участке более двухсот человеческих скелетов:
«Историк семнадцатого века Джон Обри находил обгоревшие человеческие кости в пятидесяти шести различных ямах. Тоже приношения богам? Быть может, Стоунхендж был и крематорием, и храмом — местом ритуальных убийств в честь астрономических событий?»
Гидеон, только что прочитавший дневники, написанные десятилетия спустя, удивлялся, слыша скептический тон, которым задавал эти вопросы отец. Еще удивительнее было думать, что это может оказаться правдой. Пленка прокрутилась почти до конца.
«Около трех тысячелетий назад неведомые руки доставили эти глыбы голубого камня с холмов Пресели. Нам до сих пор неизвестно, каким способом это было сделано. Они расположили камни по кругу, обратив вход в сторону восхода в день солнцестояния. — Натаниэль прошел к большой глыбе песчаника, поднял руки. — Эти гигантские сарсены, некоторые в три раза выше моего роста, весят до сорока тонн. Поставленные на торцы невероятно талантливыми древними строителями, они были увенчаны горизонтальными сарсенами, для чего использовались сложные пазо-шиповые соединения — инженерное решение, опередившее свое время. — Он прошел в глубину круга. — Здесь, в сердце круга, расположена Подкова — пять пар вертикальных сарсенов с гигантскими горизонтальными перемычками, это — трилиты».
Гидеон досмотрел фильм до конца на удвоенной и даже учетверенной скорости, заставив отца забавно метаться между камнями, указывая на Пяточный камень, на Плаху и северо-восточный проход.
Устроив себе короткий перерыв, он налил кружку чая и вернулся досматривать последнюю из безымянных кассет. Выдернул ее из картонного футляра и увидел в центре этикетку, подписанную не отцовской рукой. Написано было: «Гидеону, моему любящему сыну, моей гордости и радости».
Этого почерка он не видел десятки лет, но узнал сразу. Почерк матери.
Джимми Доккери, проклиная всех и вся, натягивал спецкостюм из ткани «тайвек». Почему его вечно вызывают среди ночи и всегда подписывают на самую неприятную работу, кладбищенские смены со скучными преступлениями? Любую кашу разгребать достается Джимми. Сперва поиски пропавшего, разборки с самоубийством какого-то старикана, а теперь пожар в сарае. Он полагал, что достоин расследовать более серьезные случаи. Если бы отец, заместитель констебля, знал, на какое дерьмо его посылают, он бы всех поувольнял.
Доккери взмахнул своим пропуском и поднырнул под желтую ленту. Представился усталому патрульному и зашел в почерневший остов сарая. Яркие дуговые фонари освещали обгорелые остатки фургона. Выгоревшую копию того, который он видел в записи со станции обслуживания. Его искала половина полиции округа. Джимми подобрался поближе. Внутри мужчина и женщина, стоя на коленях, осматривали труп.
— Девушка? — спросил Джимми. — Та, которую разыскивают?
Вопрос мячиком отскочил от спины патологоанатома Лизы Гамильтон. Она узнала его по голосу.
— Нет, это мужчина, и, сержант, маленькая просьба, не стойте над душой, не приставайте, не раздражайте меня и — ни в коем случае — ничего не трогайте.
— Понял.
Джимми на это было наплевать. Он от всех только и слышал — «не» да «не». Кроме того, к Лизе он питал слабость. Даже в два часа ночи она расшевелила в нем какие-то первобытные чувства.
Подглядывая из-за плеча, он видел, что труп похож на подгоревшее барбекю — тошнотворная смесь черного и розового. Клочья одежды пристали к обугленным костям, смолистые лужицы человеческого жира разлились по остаткам днища фургона. Джимми заметил, что часть металлической рамы выгнута вверх.
— Здесь что, взрыв был?
— Газовый баллон, судя по всему, — вставил молодой эксперт, рябой парень с волосами-иголками. — Видно, что взорвалось под горелкой плиты.
Джимми обошел их и осмотрел весь выгоревший фургон.
— Девушки не было? — окликнул он через плечо. — Вы уверены, что ее здесь нет?
Лиза Гамильтон, не разгибаясь, повернула голову:
— Вы серьезно предполагаете, что я могла не заметить целую женщину?
Он понял, что сказал глупость.
— Нет, конечно. Просто мы с ума сходим, ее разыскивая.
Патологоанатом ответила все так же мрачно:
— Никаких пропавших женщин. Пока меня интересует имеющийся здесь мужчина. И я хотела бы отдать ему последний человеческий долг, основательно расследовав его смерть.
Джимми понял намек и попятился. Еще один из группы экспертов трудился, вкладывая в пакеты и снабжая этикетками все, что удавалось поднять или отскрести с пола и со стен. Джимми увидел груду бумажных мешков: с разбитой рюмкой, обгорелой сковородкой, пустой водочной бутылкой и почерневшими столовыми приборами.
Рядом с ним оказалась женщина с пластиковым пакетом для улик.
— Мы нашли в бардачке права и документы на аренду машины. Прокоптились, но целы.
Джимми поднес пакет к свету и с трудом разобрал: «Эдуард Джейкоб Тимберленд». Ему стало грустно. Когда знаешь имя, к человеку относишься по-другому, он уже не совсем чужой. Джимми окликнул патологоанатома:
— Проф, мне надо в отдел. Когда у вас будет готов рапорт?
Она не оторвалась от осмотра.
— После завтрака. Я пришлю по связи, а к полудню буду доступна, если вы захотите поговорить лично.
— Спасибо.
Он бы очень хотел поболтать, например, за кофе. Как знать, что бы из этого вышло… Джимми махнул рукой на прощание.
— Всем доброй ночи!
В ответ ему что-то пробурчали. Он уже выходил из сарая, когда услышал задорный ответ профессора:
— Доброго утра! Не шутите с фактами, детектив, уже утро!
Гидеон с бьющимся сердцем вставил в плеер старую кассету.
Женщина, возникшая на экране, мало походила на его любимую мать. Он ожидал увидеть красавицу с венецианского видео. Смешливую, полную жизни. Но не это.
Она сидела на больничной кровати, опираясь на гору подушек. Судя по ракурсу, снимала себя сама. Лицо — обтянутый кожей череп, преждевременно поседевшие тонкие волосы и измученный взгляд по-красневших глаз.
Мэри Чейз, улыбавшаяся сыну через монитор и годы, была близка к смерти.
«Гидди, мой милый. Мне будет так не хватать тебя. Я надеюсь, тебя ждет долгая и очень счастливая жизнь, и ты узнаешь, сколько радости приносят дети. С твоим рождением моя жизнь стала полна. Мне ничего больше не хотелось, только чтобы ты, я и твой отец были счастливы вместе. — Она переждала нахлынувшие эмоции. — Дорогой, этому не суждено случиться. У меня осталось не так много времени, но я должна что-то сказать тебе, поэтому оставляю это сообщение до времени, когда ты станешь старше, достаточно взрослым, чтобы увидеть меня в таком состоянии и не испугаться».
Гидеону пришлось вытереть слезы. Он впервые осознал, что ему не позволяли видеть мать в ее последние дни, в период, когда она была так ужасно истощена. Мэри Чейз тоже плакала, протягивая руку к своему единственному сыну.