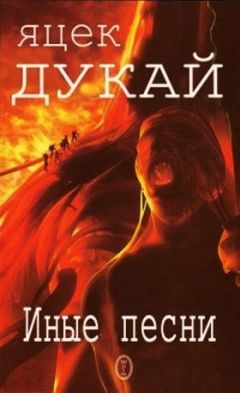Прежде чем выехать на портовый бульвар, коляске пришлось пробираться еще более сужающимися улочками старого купеческого квартала — и здесь она увязла на долгие минуты. Их окружила толпа, в уши ворвалась взвесь криков, смеха и громких разговоров на четырех языках, в ноздри — запахи: от обычнейших до самых экзотических, тех, из персидских и индусских магазинчиков, открытых «прилавков дураков», эти запахи все были острыми. Как всегда в такой толпе и суматохе, всякая вещь казалась чуть менее собой и чуть более чем-то другим, то есть ничем, вещь, слово, воспоминание, мысль, господин Бербелек рассеянно постукивал набалдашником трости по подбородку.
— А этот Ихмет…
— Да?
— У него есть семья? Где он обитает?
— Связать его землей? Хм… У этого города много преимуществ, но чарующим его назовут немногие.
— Я скорее думал о домике под Картахеной, имение подле моей виллы в будущем месяце пойдет на продажу, получил письмо, можно бы…
— Они сильно ценят подобные связи. М-м…
Не стоило забывать, что риттер Ньютэ — се в глубине души ксенофоб. Господин Бербелек прекрасно об этом помнил, он сам оставался для Кристоффа чужаком; разве что здесь, в Неургии, чужаками были они оба. Ксенофобия Кристоффа была столь специфической, что не плодоносила ни ненавистью, ни неприязнью, ни хотя бы страхом. Просто Кристофф к каждому, кто не был гердонцем и кристианином, относился будто к дикому варвару, ожидая всего наихудшего и не удивляясь ничему, а любое проявление человечности приветствовал как огромную победу своей морфы. За этим крылись глубочайшие пласты непреднамеренного презрения, но внешне оно проявлялось только в словоохотливой сердечности. «Говоришь по-гречески! Как же я рад! Придешь к нам на ужин? Если, конечно, ешь мясо и пьешь алкоголь». И при том Кристоффа воистину невозможно было не любить.
Господин Бербелек вынул янтарную махронку и угостил риттера. Закурили оба, возница подал огня.
— Ты ведь знаешь эстле Шулиму Амитаче.
— Конечно. — Господин Ньютэ неторопливо выпустил вязкий дым. — Что за смесь?
— Наша.
— Правда? Ты подумай. Так что с той Амитаче?
Господин Бербелек захихикал, глубоко затянувшись.
— Я, пожалуй, поймался в ее корону. Ну, или она — в мою. И поэтому думаю…
— Все женщины — демиургосы вожделения.
— Да-а-а…
— Тогда чего переживаешь? Все правильно, породнись с ними, с Брюге, с его родственниками, об том и речь, об том и речь. Для вящей силы НИБ!
— Она приехала из Византиона — не знаешь ли кого-то, кто знал бы ее там?
— Поспрашиваю. А зачем? Веришь этим сплетням?
— Каким сплетням?
— Что молодая не потому, что молода, а красивая не потому, что красива…
— Ах, как обычно, рассказывают безумные сказки из зависти.
— Точно. Раз уж родственница Брюге —
— Глиняный министр.
Возница щелкнул кнутом, кони рванули, экипаж вырвался из толчеи. Они выехали из тени улицы на солнечные бульвары, широкие портовые террасы, где керос, освобожденный от натиска толпы, тотчас затвердел, а господин Бербелек согнал свои мысли в стройную шеренгу, обрывочный разговор завершился.
Склады Дома «Ньютэ, Икита тэ Бербелек» находились в длинном деревянном пакгаузе, чьи высокие ворота раскрывались прямо на набережную. Воденбург обладал глубоким портом и закрытым, безопасным заливом (творением некоего позабытого кратистоса), и обычно корабли швартовались здесь борт в борт, плотно заслоняя морской горизонт; как и нынче. Шла выгрузка и погрузка, у самого причала НИБ суетилась сотня невольников и наемных рабочих.
Кристофф и Иероним подъехали к складам сзади. Эстлос Ньютэ, сойдя, вынул из кармана часы.
— Полчаса еще.
Внешней лестницей поднялись в контору — та размещалась в надстройке, на третьем этаже. В дверях разминулись с Н’Йумой.
— Подгони же людей с «Кароля», на весла, на весла, мне поскорее нужно освободить место для «Филиппа».
Одноглазый негр кивнул. В прошлом году Н’Йума выкупился у риттера, но ментальность невольника никуда не делась, такая морфа впечатывается глубже всего.
У господина Бербелека имелось здесь свое бюро, ему выделили угловую комнату, но за все эти годы он заглядывал туда лишь пару раз. Не видел необходимости поддерживать фикцию, купец из него был — как из Кристоффа дипломат. Если и наведывался на склады, то все заканчивалось визитом в кабинет Ньютэ, откуда, впрочем, открывался наилучший вид; широкое, трехстворчатое окно выходило прямо на порт и залив, господин Бербелек мог с высоты мачт оглядывать все здешние муравьиные хлопоты. Если не было дождя и не стоял слишком сильный мороз, Ньютэ оставлял окна открытыми, и внутрь тогда свободно врывался морской ветер, соленый воздух многократно пропитал здесь всякую вещь, насытил своим запахом стены и ковер.
Докуривая махорник, господин Бербелек поглядывал на птичьи движения портового подъемника, что загружал океаносовый клипер чужой компании обитыми железом ящиками, следил за медленно отплывающим от побережья «Каролем Пятой», глядел на ритмичную работу гребцов в буксирных лодках, на обнаженные бицепсы Н’Йумы, покрытые каким-то племенным морфингом, — негр, стоя на куче старого такелажа, орал ругательства и поощрения носильщикам, что убирали набережную, для них — владыка и господин, вбивающий в землю одним взглядом дикого глаза… Меланхолично вскрикивали чайки. Невольница принесла горячий чи: господин Бербелек поблагодарил, не отворачиваясь от окна. За его спиной Кристофф ругался из-за какого-то просроченного налога с персидским чиновником, в ругательствах и божбе они переходили с окского на греческий и пахлави и обратно. Иероним швырнул окурок в окно. Опершись предплечьями о высокую фрамугу, он хлебал чи, соль щипала язык.
Эстлос Бербелек мысленно возвращался к началу своей купеческой карьеры. Лютеция Паризиорум, лето после карпатского наступления Чернокнижника, Иероним Бербелек, принимаемый в салонах. Измельчал тогда так сильно, что даже думал о себе в третьем лице. «Иероним кланяется». «Иероним развлекает общество». «Теперь Иероним производит впечатление». «Теперь Иероним будет отдыхать». «А теперь Иероним перережет себе горло». Антос Чернокнижника обволакивал его, как горячий смрад. Он забывал есть. Острые предметы, пропасти, бегущие лошади, под которых мог броситься, — как огонь для мотылька. И, конечно, он почти непрерывно спал. А если пробуждался, то в странное время, со странными желаниями. Что хорошо: у него оставались хоть какие-то желания. Таким его и закогтил эстлос Кристофф Ньютэ. Большой крест на груди, буйная борода, ноль осведомленности и салонного такта: импортер меха из Гердона с далеко идущими планами и с рынком сбыта под неформальной персидской монополией. «Если бы только ты мог до них добраться, а ты ведь всех их знаешь, а кого не знаешь — те в любом случае знают тебя. Подумай только, эстлос, как мы сможем обогатиться!» Золото! Богатство! В тот вечер, за бокалом сладкого вина, в разноцветном сверкании чжунгосских огней на безлунном небе, в облаке морф франконской аристократии, в сердце антоса Лео Виаля, Кратистоса Высокомерия и Самолюбия — господин Бербелек решил жаждать богатств. Решил захотеть хотеть, решил решить — Юпитер, как-то же нужно выпинывать из себя волю! О, междометие — уже начало. После изменяется строй разговора. «Господин Бербелек решил сделаться богачом». «Господин Бербелек будет богачом». Уменьшился ли смрад Чернокнижника? На всякий случай Иероним с тех пор держался поближе к риттеру, уверенный, что импульсивный гердонец заставит его участвовать в каждом приеме, на какой придет приглашение, — и не позволит спать слишком долго. Со временем начали рождаться и другие желания. Самым свежим помыслом оказалась эстле Амитаче — разве она не была достойна вожделения? Все изменялось к лучшему: нынче господин Бербелек не обладал уверенностью — он лишь хочет ее вожделеть или уже и вправду вожделеет. Сложнее всего морфировать себя самого, и проще всего пропустить момент изменения собственного кероса.
— Прибывает, Кристофф.
«Филипп Апостол» спустил паруса на второй мачте и двигался к берегу, теряя скорость, экипаж ожидал с баграми и швартовыми.
Ньютэ подошел к окну, высунулся и крикнул:
— Н’Йума! Капитана, пилота и нимрода — ко мне!
Иеронима же дернул за плечо к дверям гостиной.
— Я заказал обед у Скелли.
Если не брать во внимание кабинет Бербелека, гостиная была, пожалуй, наименее часто используемым помещением в представительстве НИБ. Площадь пакгауза, шесть тысяч квадратных пусов, позволяла риттеру осуществлять разнообразнейшие капризы: кроме прочего, он разместил в надстройке две спальни (официально «для гостей компании») и шахматную комнату. Гостиная была длинным узким помещением с окнами на портовую стену и якорни воздушных свиней. Обставили ее в кельтском стиле, стены забраны в темное дерево, массивная мебель из дуба, гиекса и проснины, с прямыми углами и острыми гранями громоздилась по углам комнаты — кроме вставшего в центре высокого стола, вокруг которого нынче крутились трое дулосов из «Дома Скелли». Накрыто на пятерых.