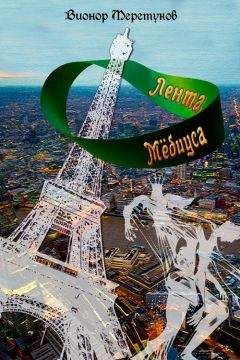У меня была внутренняя, придуманная жизнь и был внутренний, придуманный мир, который я охранял, как заповедную зону. И вот этот мир, девственно чистый и совершенный, в котором действовали далекие от реальной жизни законы, распался, рассыпался, раскололся, как гнилой орех. Я даже вижу этот проклятый орех и слышу звук, глухой и тошнотворный, когда он раскалывается…
Но этот выдуманный мир защищал меня от страха, который во мне сидел неискоренимо вместе с неуверенностью в сегодняшнем и завтрашнем дне, вместе с извечной неудачливостью и нравственным дискомфортом.
Мы развращены страхом — страхом перед грязными подворотнями, страхом привычного бесправия, страхом постоянной зависимости от "свинцовых мерзостей жизни", страхом неизвестности, забитости и пошлости".
Я понимаю, что слова получаются фальшивыми, неискренними, ненужными… Но я все равно их пишу, пишу, пишу…
Дневник этот, говорю я сам себе, я веду для того, чтобы не свихнуться окончательно в этом предвечном приюте скорби и чтобы не растерять разлетающиеся мысли, которыми приходится дорожить, потому что других мыслей нет…
Так проходят дни и ночи, дни и ночи… Так тянутся недели.
…Я давно все понял. И еще я понял, что до самого конца буду рядом с Лидочкой. И теперь мой долг — сделать все, чтобы она как можно меньше страдала от боли.
Иду к заведующей отделением. Сидит за столом капитальная красномордая тетка, доктор медицинских наук и профессор, и с серьезным видом листает толстую тетрадь.
Окидываю взглядом кабинет. Чистенько и почти уютно. На тумбочке, за спиной медицинской дамы, стоит, как дань времени, небольшая икона. Узнаю неброскую манеру самодеятельных иконописцев начала двадцать первого века.
На иконе изображен неведомый святой, своей окладистой бородой и шальными глазами напомнивший мне известного диссидента Льва Копелева.
Стараясь быть спокойным, задаю вопрос. Его суть сводится к тому, что мне хотелось бы знать, как долго… тут я делаю паузу, как долго будет мучиться Лидочка.
Ответ предсказуем.
— Мы делаем все возможное, — бодро отвечает заведующая. На меня при этом не смотрит… Похоже, ее не пробить. Я прошу ее убрать капельницу, но в ответ получаю взгляд, полный ледяного непонимания.
Я встаю, молча киваю и выхожу из кабинета.
Однажды под утро Лидочка приходит в себя:
— У меня отобрали лошадку, — жалуется она.
Я протягиваю ей маленькую, величиной со спичечный коробок, глиняную игрушку.
— Вот бы ускакать отсюда на ней… — тихо произносит она, глядя на игрушку. — А я сегодня ночью чуть не умерла… Я была там! Там страшно! — она заплакала. — Я не хочу умирать… Как ты будешь жить, Андрюшенька?
Я чуть не задохнулся, когда пытался проглотить комок, застрявший в горле. Слезы кипели в моих глазах.
Срывающимся голосом я стал говорить Лидочке слова, в которые она не верила, но ждала, чтобы я их произнес. И я говорил, пока на ее лице не появилась слабая улыбка и она не уснула. Минут через десять она опять очнулась и, хитро прищурившись, сказала:
— Сейчас я видела огромных, невероятно красивых рыб, и я плавала с ними. Это было так прекрасно!.. — и она опять закрыла глаза.
…А нескончаемые дни и ночи все тянулись….
Врачи выполняли медицинские предписания и продлевали жизнь страдающей девушки….
Ее крики, не сдерживаемые сознанием, разносились по больничным коридорам. Она умирала мучительно, и доктора врачевали ее мучительное умирание. Для этого у них всегда под рукой имеются средства…
.
И отчетность в ажуре, и больница может рапортовать по инстанции, что все возможное для такого-то больного сделано, и он прожил благодаря капельнице и уколам ровно столько, сколько надлежало прожить в соответствии с инструкцией.
При этом все отлично знают, что речь идет о страдающем перед неизбежным концом человеке. И ему нужны не лекарства, а что-то совсем другое…
Эту тему можно десятилетиями обсуждать всем миром, и так и не прийти к какому-то решению… Вопрос не простой.
Но нельзя уходить от этого вопроса, прикрываясь словами о возможных нарушениях врачебной и человеческой этики.
Да, этих нарушений не избежать. И что? Мы должны спокойно смотреть, как в муках умирают наши близкие?
Вспомним умирающего в муках солдата. Он воет от боли… Он умоляет пристрелить его. Кем назвать того, кто сделает это? Убийцей?
А как же Левий Матвей с его ножом из хлебной лавки?.. Не каждый решится выстрелить в товарища… А уж прирезать…
Деятельно сострадать… Для этого, знаете ли, надо иметь известное мужество…
Булгаков устами Иешуа сказал, что волосок, на котором висит человеческая жизнь, может перерезать лишь тот, кто подвесил… Понятно, кого, говоря об исключительном праве подвешивать, имел в виду писатель.
Кто-то скажет, что, перерезая волосок, мы занимаемся не своим делом.
Своим, не своим… Кто это определяет?..
И вообще, может, Господь иногда делегирует кое-кому из нас свои полномочия?..
Большая доза снотворного… Я ложкой истолок таблетки, долго размешивал их в стакане с водой…
На какое-то время мне показалось, что не Лидочка умирает, а умираю я…
И не она, а я лежал на койке, истерзанный болью и изуродованный хирургами, которые чистили мое тело от смердящей гнили, поразившей спину, руки, ноги — почти всего меня… Я видел, что они делают все от них зависящее, чтобы я мучился подольше.
Передо мной было окно, я видел далекие фиолетово-черные стволы деревьев с грустно нахохлившимися птицами на ветвях, над лесом нависало серо-вишневое вечернее небо.
Было тихо. Жизнь замерла, остановилась перед чем-то огромным, страшным, неведомым, неизбежным. Я почувствовал, как я бесконечно, безнадежно одинок в этот скорбный миг…
В растревоженную смертной тоской душу внезапно вошел покой. Я понял, что должен лелеять этот покой — так будет легче умирать.
Потом понял, что покой отныне уже никуда не уйдет и что он разлит во всем — в глухой тишине, в пространстве между окном и дверью, и в пространстве за окном, где находится в вечном движении мир живых людей, который существовал до меня, будет существовать и после, — как странно! — но я ничего этого не увижу.
Это было страшно, но покой быстро захватил меня целиком, и страх исчез…
"Жизнь так "прекрасна и удивительна", что порой мысль о смерти не кажется такой уж нежелательной, а скорее она видится заманчиво-сладостной и соблазнительной, как воспоминание о первой ночи с девушкой".
Так я записал тогда в дневнике. На первый взгляд, сказано банально. Впрочем, почему на первый взгляд? Но тогда дневник спасал меня от окончательного сползания в мир абсурда и сумасшествия…
Все. Конец…
Лидочка умерла…
Вместе с ней умерла часть моего "я". Большая часть. Это я знаю точно…
Я бы с удовольствием умер весь, целиком…
Но что-то мешало мне умереть до конца. Я уже не боялся смерти, как когда-то. Отстраненное равнодушие заполнило сердце. Испарились все желания, остались одни потребности.
Я кис, скисал, закисал. Иногда в мозговую пустоту врывалась неожиданная мысль — ради чего мне жить? Я не находил ответа, раздавленный безразличием абсолютно ко всему.
Из близких у меня оставался брат, которого я нежно любил, но видел я его редко: у него давно была своя жизнь, и мне не хотелось нагружать его своими проблемами, испытывая на прочность наши отношения. Мои дети?.. Тут было слишком много "но"…
Работа? Творчество? Я был не в силах что-либо делать… Мне не за что было зацепиться, чтобы себя вытащить. Я крепко сидел в болоте хандры и отчаяния. У меня были волосы на голове, но не было изобретательности барона Мюнхгаузена…
…После похорон Лидочки прошло несколько дней. Мои постояльцы притаились. Квартира была пуста, и это уже не радовало меня. Квартира была слишком пуста.
Телефон надрывался, но я не брал трубку, будучи не в силах ни с кем вести разговоры, и телефон, в конце концов, угомонился. В комнатах установилась кладбищенская тишина.
Я пил, пока не подошли к концу запасы водки. Когда это случилось, мне пришлось, проклиная все на свете, приводить себя в порядок и выбираться на улицу, в магазин. Каких усилий мне это стоило, не знает никто. Как, впрочем, не знает никто, сколько дней я пил "в одного"…