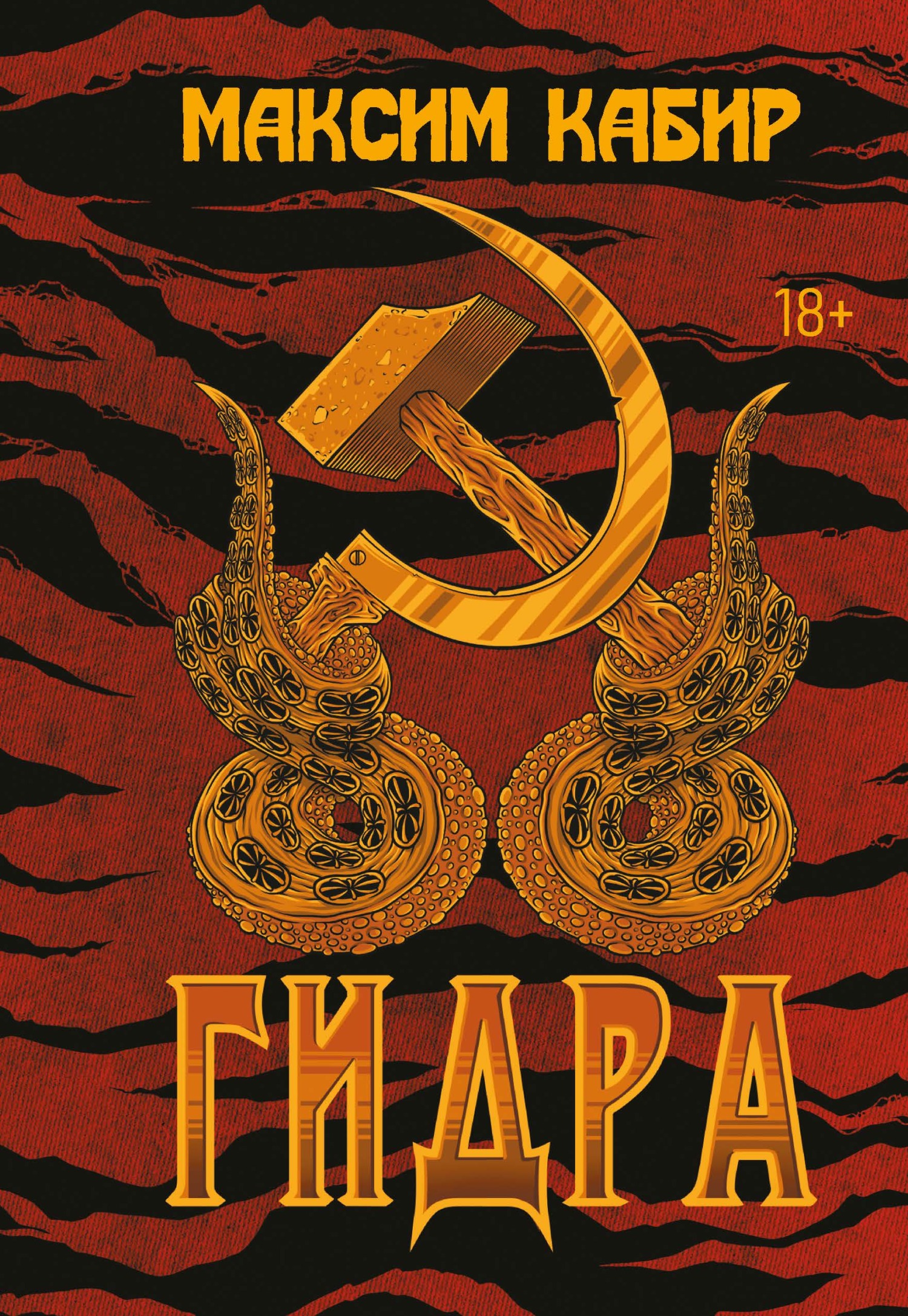лет сорока, иллюстрация к теории Ломброзо. На земснаряде работали вольнонаемники, большинство строителей отбывали срок по политическим статьям, но бригадирами почему-то назначались криминальные элементы. Как Золотарев – убийца и грабитель-рецидивист.
– Что тут происходит? – поинтересовался Ярцев строго.
Золотарев лыбился, демонстрируя гнилые зубы, и норовил грудью прижаться к начальнику проекта.
– Идемте, товарищ главный. Картину маслом покажу.
Ярцев покосился на сержанта, который словно бы спал и ходил во сне. Вздохнул и поплелся за зэком.
– Товарищ главный, разрешите обратиться.
– Ну.
– Пацанам бы махорочки. – Золотарев заискивающе, снизу вверх смотрел на Ярцева и похрамывал, будто передразнивал начальника. – На пять закруток табачку осталось, ей-богу.
– Экономьте, – отрезал Ярцев. Прислушался к ночи – к гулу реки, шуму грунтовых насосов, выкрикам прораба – и вдруг понял, чего не достает на стройке.
– А где собаки?
– То-то и оно, – расплылся в улыбке Золотарев. И ткнул пальцем в пятиметровую эстакаду.
Псы забились под деревянную конструкцию. Не безродная шпана – сторожевые овчарки, чьи челюсти капканами смыкались на мышцах и костях беглецов. Сейчас они жались друг к другу, образовывая комок мокрой шерсти, и жалобно скулили. От этого звука у Ярцева заныло в солнечном сплетении.
– Вы чего? – удивился Фоменко, снимая фуражку и подставляя лысину дождю.
– Чуют, – сказал Золотарев мечтательно. Ярцев оторвал взгляд от перепуганных собак.
– Что чуют?
– Как донная матушка пробуждается. Как детишки ее рыскают в ночи.
Ярцев приоткрыл рот. Что-то мелькнуло сбоку: длинное, блестящее, неправильное. Соскользнуло с эстакады, как презерватив, наполненный водой, и опутало щупальцами Фоменко.
Все случилось молниеносно, на одном Ярцевском вдохе. И Фоменко даже не ойкнул. Тварь унесла его во мрак, легко, как соломенную куклу, словно инженера и не было. Лишь кепка свалилась в грязь, да пуще прежнего заскулили и задрожали псы.
Ярцев выдохнул и завертел головой, ища Фоменко или ту нечисть со щупальцами. Его взгляд уперся в сержанта и подошедших конвоиров.
– Сделайте же что-нибудь!
Военные не отреагировали. Кто-то коснулся локтя Ярцева. Золотарев. Ухмыляющийся гаденыш в кепке Фоменко – и когда успел подобрать? Мутная вода струилась с головного убора, пачкая крысиную физиономию бригадира. Золотарев высунул язык, ловя тяжелые капли, почмокал и сказал:
– Детишки проголодались, товарищ главный, но не боись. На тебя у матушки другие планы. – С этими словами Золотарев схватил Ярцева за подбородок. Начальник вскрикнул, скорее от изумления, чем от страха. Сержант и солдаты лунатично наблюдали за происходящим.
Ярцев попытался высвободиться, но жесткие пальцы впились в его скулу, в щеку. Физиономия Золотарева наплыла, скрыв военных. Распахнутый рот, пни почерневших зубов и что-то за зубами, что-то, лезущее из глотки…
Ярцев выпучил глаза. Жирная пиявка вылезла изо рта бригадира, как раздувшийся язык. Пальцы надавили, потянули за челюсть. Мерзость дотронулась до губ Ярцева. Прошла по резцам. По небу. И исчезла в его горле.
Золотарев разжал пальцы и отступил. Ярцев упал на колени, хватаясь за шею и кашляя. В нем что-то разворачивалось, выпрямлялось. Он чувствовал себя резиновой перчаткой, в которую засунули руку.
Золотарев танцующей походкой подошел к краю котлована и объявил зычным голосом:
– Товарищи заключенные!
Люди прервали работу и задрали головы.
– Простите, что беспокою, – дружелюбно провозгласил бригадир. – Вы славно потрудились на благо Советской Родины. Теперь ваши тела послужат пищей для ползущих отроков донной матушки. Именем ее я приговариваю вас к высшей мере социальной защиты – расстрелу. Еще раз спасибо.
Золотарев отошел к задыхающемуся Ярцеву, а безучастные солдаты шагнули вперед.
– Ну и денек, товарищ главный.
Ярцев таращился в пустоту. Он не слышал Золотарева, не слышал, как затрещали винтовки, шпигуя свинцом беспомощных зэков. В его ушах звучала музыка Ахерона. В его черепе загорались звезды, и звезды были дырами, и что-то огромное смотрело на Ярцева из дыр.
А внизу шевельнулись тени. Алая кровь текла в грязь, распаляя аппетит охотников, ливень омывал трупы. Извивающаяся скверна полезла по кочкам, чтобы пировать в ревущей ночи.
1938
Глеб Аникеев родился не в то время. Совершенно не в то.
Ему бы Гражданскую войну застать. Как отцу, который в восемнадцатом добровольцем на Южный фронт ушел и сражался под Киевом. Восемнадцатый год был переворотным – Революция навсегда изменила мир. Подумать только, в царской России никто слыхом не слыхивал про Р’Льех, Дагона и Старцев, астрономы открыли планету Юггот за полгода до взятия Зимнего. А потом случилось то, что занудный учитель истории называл Сдвигом. У Сдвига была конкретная дата, и забывший ее Аникеев схлопотал двойку, но теперь он вызубрил: ночь с шестнадцатого на семнадцатое июля. Именно тогда, в одночасье на карте страны появились новые реки и горы. Антибольшевистское восстание в Ярославле захлебнулось в крови и плазме. Барон Унгерн присягнул на верность Хастуру и стал полубогом, превратившим Ургу в храм каннибалов. Ленин признал, что появляющиеся тут и там книги с тайными знаниями могут быть полезны пролетариату в его борьбе с прежним миром. Сколько всего случилось летом восемнадцатого года! Только Глеба Аникеева не случилось.
Сидя в зарослях смородины, Глеб представлял себя гарцующим на жеребце. Красивый шрам рассекает волевое лицо, сабля в ножнах, верный наган в кобуре. Попасть в красную конницу было делом непростым, но сам замкомполка Буденный сказал: «И что, что ему двенадцать? Он воин, который принесет нам победу!»
Глеб улыбнулся – грезам, Буденному, запыленной степи. В мечтах он палил из пулемета по петлюровцам, и скачущий на ракообразном чудище Махно был убит его пулей. Сколько ми-го, сколько деникинцев положил он на полях сражений! В славном восемнадцатом, за восемь лет до своего рождения…
Глеб воздел глаза к небу, точно высматривал богов, наказавших его скучной жизнью. Над провинциальным городишкой просом распылись звезды, и луна напоминала белую женскую ягодицу. Вчера Глеб прокрался к бане и подглядывал за парящимися бабами, пока не был пойман с поличным разъяренным банщиком. Правое ухо до сих пор больше левого…
– Аникеев!
– Тс-с! Тут!
Глеб вылез из смородины и пожал руку Мишке Аверьянову. В полутьме их можно было принять за братьев: оба тощие, лопоухие и наголо бритые после педикулеза.
– Думал, тебя не отпустят, – сказал Мишка. Он был отличником, но, как говорили в классе, «попал под дурное влияние Аникеева». Глебу давались литература и русский язык, Никаноровна расхваливала его сочинения и прочила карьеру прозаика. Но по остальным предметам он плавал, математика и иностранный язык – язык акло – никак не давались. А Мишка чирикал по-глубоководному, собирался после школы поступать в мореходку, а туда без акло никак.
– Кто