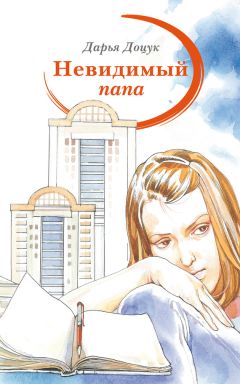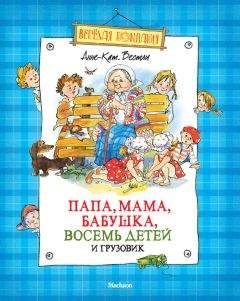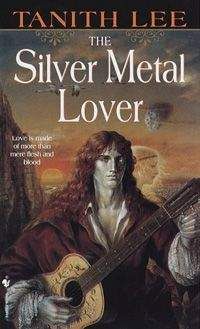Старейшина прикладывает большой палец к панели биометрического сканера на двери энергетической лаборатории.
— Доступ разрешен, степень — Старшая, — сообщает приятный голос.
Я медлю. Мне еще никогда не приходилось тут бывать. Но Старейшина решительно направляется к двери в противоположной стене. Она открывается, и до моих ушей доносится низкий рев двигателя корабля.
Наконец я увижу наш двигатель.
В машинном отделении стоит жара, гнетущая жара. Я ослабляю воротник и закатываю рукава, но Старейшина не показывает никаких признаков того, что ему хоть сколько-нибудь некомфортно. Повсюду вокруг нас туда-сюда снуют ученые. У некоторых в руках флаконы или металлические ящики, почти все держат под мышкой пленки с многозначительно горящими на экранах графиками и диаграммами.
— Иди за мной, — приказывает Старейшина.
Но я не двигаюсь с места.
Мои глаза впиваются в то, что я вижу в центре комнаты: огромный, утопленный в пол — вот он, двигатель.
Я почему-то никогда не представлял себе двигатель в машинном отделении. Я, конечно, знал, что он там есть, но ни разу не удосужился представить его себе. Из лекций Старейшины я узнал в общих чертах, что наш двигатель — это ядерный реактор, работающий на уране. То, что я вижу теперь перед собой, очень похоже на пробирку, вот только оно гигантского размера и все оплетено выходящими из верхней части мощными металлическими трубами. Невидимый поток — жжж, бам, жжж — накатывает снова, и снова, и снова. Так бьется сердце корабля.
— Да уж, шумит, — бормочет Старейшина, заметив, к чему приковано мое внимание. — И пахнет к тому же.
Я сначала не заметил странного запаха смазки и очистителя.
— Он прекрасен.
Старейшина фыркает, а потом пристально смотрит мне в лицо.
— Ни черта он не прекрасен. — Он переводит взгляд на двигатель. — Я в жизни не видел ничего более отвратительного, — добавляет он глухо. — Ты знаешь, какой это двигатель?
— Атомный.
Старейшина закатывает глаза.
— Можно чуть-чуть поточнее, если не сложно?
— Быстрый реактор со свинцовым теплоносителем? — наугад говорю я, вспоминая чертежи на стене в Регистратеке.
Старейшина вынимает из кармана модель — ту, что я видел у него на столе, когда залез к нему в комнату. Раскрыв ее, показывает мне крошечное нутро двигателя. Тот выглядит точно как живое существо с венами, органами и неспешным «жжж, бам, жжж» жизни.
— Он работает на уране, — продолжает Старейшина. — Уран проходит через реактор, а потом вот сюда, — он указывает на небольшой ящик, соединенный с пробиркой трубками и проводами. — В конце ядерного топливного цикла уран перерабатывается. Предполагалось, что уран можно будет использовать еще и еще раз — это система с многократным использованием топлива.
От моего внимания не ускользает ключевое слово — «предполагалось».
— Но этого не происходит?
— Часть цикла, направленная на переработку, работает не так, как задумывалось, — отвечает Старейшина. — Предполагалось, что производительность урана останется максимальной.
— Но она снижается? — спрашиваю я.
— Да, — кивает он.
— И что в результате?
Я вижу, как Старейшине хочется отвести взгляд, но продолжаю смотреть ему в глаза.
— Если коротко? Наша скорость тоже снижается. Постоянно. Сначала мы держались на восьмидесяти процентах от максимальной скорости, потом — на шестидесяти. Сейчас нам иногда удается разогнаться до сорока, но обычно все же меньше.
— Значит, поэтому отложили посадку? И нужно еще двадцать пять лет?
— Двадцать пять лет? — фыркает Старейшина — первый намек на эмоцию за все время, что мы провели в машинном отделении. — Если бы! Это даже не близко. На сегодняшний день мы отстаем от графика на двести пятьдесят лет.
63
Эми
На четвертом этаже нас уже поджидает Док. Он не удивляется ни Стиле, ни мне, из чего я делаю вывод, что толстая медсестра с нижнего этажа все-таки донесла ему по своей встроенной гарнитуре. Сразу было ясно, что ей нельзя доверять.
— Как дела, Стила? — нарочито жизнерадостно начинает доктор. — Эми, дальше я справлюсь, можешь идти в свою комнату.
— Нет, спасибо, — говорю я, чувствуя, как отчаянно Стила цепляется за мою руку.
— Что? — доктор выглядит удивленным.
— Я побуду со Стилой.
— Но…
— Я хочу, чтобы она осталась, — твердо заявляет Стила. Ее голос больше не дрожит.
Доктор хмурит брови.
— Я не уйду, — добавляю я.
Доктор сжимает губы так, что кожа вокруг них белеет.
— Хорошо, — он опускает взгляд на пленку у себя в руке. — Тридцать шестая свободна. — И, обернувшись, идет по коридору мимо двух дверей к третьей. На ней нет биометрического сканера — вместо этого доктор вынимает из кармана массивный железный ключ.
В просторной палате вдоль стен стоит десять кроватей — по пять с каждой стороны. Доктор ведет Стилу в дальний конец, к единственной свободной из них.
— Мы тебя ждали, — говорит ей доктор. У меня по спине бегут мурашки. — Намного удобнее, когда набирается целая палата, — добавляет он себе под нос.
Он указывает на аккуратно сложенную больничную рубашку, лежащую на кровати. Стила смотрит на меня. Она не хочет меня отпускать; я не хочу отпускать ее. Когда ее рука отрывается от моего локтя, у меня возникает странное чувство, словно мы прощаемся.
Доктор стоит как ни в чем не бывало. Дрожащими руками Стила расстегивает верхнюю пуговицу рубашки.
— Да отвернитесь же вы, — шиплю я на него. Он, кажется, не замечает; тогда я беру его за локоть и разворачиваю. Мы ждем, когда Стила переоденется, и я наблюдаю за ним — отвернувшись к стоящему у стены столу, он возится с какими-то инструментами. Он не собирался подглядывать за Стилой, да и с чего бы ему? Она ведь совсем старушка. Нет, он просто напрочь позабыл, что ей может быть неловко раздеваться перед ним. Он не видит в ней человека, у которого есть чувства и эмоции. Слишком долго он играл в доктора с туповатыми фермерами — и совсем забыл, что такое настоящие люди.
— Готово, — слышу я скрипучий голос Стилы.
Она сидит на больничной койке, вытянув ноги и накрыв их простыней. Окинув комнату взглядом, я замечаю, что все остальные пациенты в палате сидят так же. И, хоть они все, как назвала бы их Стила, «безмозглые тупицы», она им — скорее всего, бессознательно — подражает.
Ее вещи аккуратно сложены на краю постели. Из-за больничной рубашки, куда более тонкой, чем обычная одежда, Стила кажется меньше, слабее, немощнее, чем раньше. И намного испуганнее. Она дрожит, и, по-моему, не из-за гуляющего по комнате сквозняка.
— Что это за штуковины? — спрашивает Стила прерывающимся голосом.
— Всего лишь капельницы, — доктор показывает их ей. — Там вещества… питательные.
— А почему нельзя использовать пластыри или как они у вас там называются? — спрашиваю я.
— Медпластыри лечат мелкие недомогания — головные, желудочные боли. Тут дело посерьезнее.
— Ни у кого больше нет трех капельниц, — замечает Стила.
В палате так тихо, что я почти забыла об остальных пациентах. Старики на других койках покорно смотрят в потолок. Фермеры. Но Стила права: у них только по две капельницы — одна в левой ладони и одна в левом предплечье.
— Третья — особенная, потому что ты тоже особенная.
— Брехня.
Доктор криво усмехается.
— Потому что ты единственная здесь принимаешь психотропные.
Стила кусает губы. Как и Старший, она тоже верит в свое сумасшествие, о котором всю жизнь твердил ей доктор. Теперь он смутил ее — и вот она уже считает, что ей самое место тут, в запертой на ключ комнате, среди людей с пустыми взглядами.
— Вы ее еще даже не осмотрели, — замечаю я.
— Ммм? — не отвлекаясь, доктор протирает руку Стилы дезинфицирующим средством.
— Вы собираетесь тыкать в нее иголками, даже не осмотрев. Что это за лечение? — голос мой звучит глухо и низко. Интересно, понимает ли доктор, что это знак того, что я сейчас очень, очень сильно рассержусь.