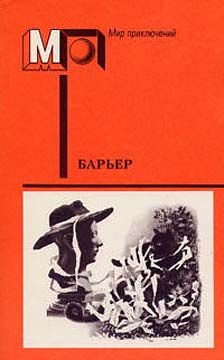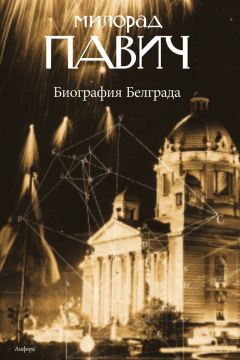Человек, одним из первых поселившийся в моих снах, был русским. У него шрам через все лицо, вот уже три с половиной десятка лет мне снится, как он, в огромном шлеме советского танкиста, входит в наш двор, волоча за собою печку на колесиках. На ней труба с остроконечным колпаком-крышкой, печка дымит, как пароход. Она вся увешена кухонной утварью, позади прилажена охапка дров и леечка с нефтью, в бесчисленных ящичках склянки с кореньями, крупами и приправой, наготове уже и квашня с тестом. Солдат тоже дымит — козьей ножкой, которую он сунул не в рот, а в нос, в левую ноздрю. Посреди двора он останавливается, раздувает огонь, поливает маслом сковородку и швыряет на нее куски теста. Сон наполняется запахом масла, разносящимся стремительно, как свист, и мне всякий раз чудится, что он разбудит кого-то в комнате, где сплю только я один. Солдат жарит пироги маршалу Толбухину и поет.
Его песне, сложенной где-то на Дону, вероятно, не более трех столетий от роду, и судьба ее такая же, как у тысяч других народных песен. Распевали ее на деревенских празднествах за ковш пива, на свадьбах, когда по обычаю выносят на блюде «красу девичью», наигрывали балалайки, и армии и конницы брали ее с собой в поход, потому что тот, кто умеет достать до сердца клинком, достанет до него и песней. Подхватывал ее казачий хор, вторя светлому мужскому голосу, что устремлялся ввысь и угасал на долгой — свеча успеет догореть — ноте, словно забыв о времени. Потом, в революцию, пелась она и красными, и белыми, а спустя еще годы, как и многие другие, похожие на нее песни с веселой мелодией и грустными словами, шла вместе с советскими солдатами, через вторую мировую войну. Сразу скажу, что была эта песня не из приметных и известных, по советскому радио не передавалась, и добиралась она до Дуная в русских танках, под бренчанье наскоро смастеренных бойцами балалаек, или, может, занесли ее из Крыма в Белград в сорок четвертом пехотные отряды Советской Армии, славившиеся звонкими голосами и крепкими ногами, изнашивавшими по восемь пар сапог за год марша. Пели ее в тот год и югославские скоювцы[1], потому что слова о парне, которого оберегают талисманы — перстень, плетка и балалайка, по-нашему — тамбура, были понятны и не нуждались в переводе:
Сохранит меня нагайка,
Колечко да балалайка…
Мы, чье детство прошло в оккупированном Белграде, этой песни, разумеется, не знали и услыхали ее впервые от русских солдат уже после освобождения города. С той поры песня о кольце, плетке и тамбуре и звучит во мне, и память о солдате со шрамом, наискось рассекшим ему лицо, не тускнеет в моих снах. А вот Никола Биляр никогда не слышал песни о плетке, кольце и тамбуре, хотя и учился музыке. Он просто не успел ее услышать. Поэтому я расскажу о том, какую роль она сыграла в его судьбе, расскажу, чтоб не говорили потом, что «было это так давно, что уже стало неправдой».
* * *
Когда первый год жизни Николы Биляра истек, быстрая птичка юркнула в рукав его сорочки, выпорхнула из другого, и подарили мальчику плетку с рукояткой, покрытой тонкой резьбой. Поначалу он берег плетку, даже умел выщелкать ею свое имя. Потом, когда в музыкальной одаренности Николы Биляра уже не было сомнений, плетку забросили на полку над изголовьем и забыли о ней. Способности к музыке открылись чрезвычайно рано и совершенно случайно. Шла пятая неделя великого поста — «глухая», когда не положено петь и веселиться, стояло утро. Николу напоили водой из колокола и с куском пирога в руке — ведь негоже натощак слушать птичье пение — отправили гулять на зеленый луг, что между домом и Дунаем. На лугу тропинки ускользали из-под ног, как улитки после дождя, над тропинками клубились нежные запахи, и мальчик принялся придумывать запахам имена. Придумав, он вытягивал их тоненьким голоском, словно продевая звук в игольное ушко, иногда голосок обрывался, будто кто-то ниточку перекусывал, а если Николу спрашивали, чем это он занимается, он отвечал, что греет на солнце свои песни, которые долго томились во мраке. Домой, на Дорчол, он вернулся с песнями. Когда мальчику пошел седьмой год, пришлось перелистать «Политику», чтобы найти на ее страницах объявление об уроках музыки. Так Никола и выучился — сначала петь, а потом читать, сначала читать ноты, а потом буквы.
В заклятый день, когда решается, сырым или сухим быть лету, мальчик обвязал дождевого червя красной ниткой — дождь не собрался, зато в дом пришел старикашка с квадратными зрачками и такими древними ушами, что только потри — сразу раскрошатся, как прошлогодняя листва. Волос с его головы еле-еле хватило бы набить трубку, и разве что борода была вроде как бы моложе всего остального, но и она становилась седой уже внутри, под кожей, до того как вылезала наружу. Оглядывая комнату потухшими глазами, он объяснил родителям мальчика, что воды бывают разные: одни гасят пламя, а другие нет, точно так же обстоит дело и с пением. Сначала, сказал учитель, он посвятит своего питомца в историю музыкальных форм, возникших здесь, на Балканах, где земля пропиталась песьим смрадом на локоть в глубину, а людскою кровью всего на пядь. Никакими инструментами на уроках он пользоваться не будет, звучать будет один только голос. Это важно, — подчеркнул он, впитывая ноздрями запахи комнаты, — потому что в музыкальных заведениях страны изучается исключительно старая церковная музыка Запада, а все остальное замалчивается, как будто отечественного музыкального прошлого не было вовсе. Ведь нож заново оттачивается, когда меняет хозяина…
Пока старик говорил, было замечено, что ногти у него потрескались и что изредка речь его прерывается кашлем. Закашлявшись, он доставал из платочка камушек соли, и, лизнув, торопливо прятал, по-видимому, это смягчало приступ.
— День словно год, — обратился он к Биляру на первом уроке. — Утром — настоящая весна, в полдень — лето, вдоволь солнца, сумерки — осень, а ночью, бог даст, увидим и снег! И, как наказано нам, — всем за дело!..
И дело, начавшись в квартирке Биляров на Дорчоле, в комнате, куда запахи со всего дома и прохлада из подвала слетались на ночлег, двинулось.
— Талант талантом, — говорил учитель, — но надо помнить, что у каждого дня в году есть музыкальное имя, меняющееся в зависимости от того, на какой день недели выпал день года. И перво-наперво надлежит запомнить эти имена. Только, — добавлял он, глянув на Николу из-под низких бровей, напоминающих мушиные лапки, — дни в году идут не чередой, в неизменном порядке, а, напротив, меняясь местами, настигая друг дружку, день помельче, день поглубже, как придется. Возьмем сегодняшний день — четверг. День богородицы, лучший из дней. Он может быть зеленым четвергом, когда опробывают плуг, или соленым четвергом, когда дают соль скоту, или пустым четвергом, когда мужчинам запрещается то, что им всего слаще. И коль каждый четверг не похож на другой, не могут совпадать и их музыкальные имена.