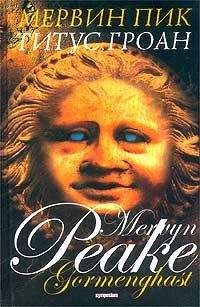Ирма смотрела в другую сторону. Леди не участвуют в «сценах». Они их просто не замечают. Она это отлично помнила. Урок Седьмой. Изогнув ноздри до того, что каждая приобрела положительное сходство с триумфальной аркой, Ирма уверила себя, что ничего толком не слышала.
Доктор Прюнскваллор, решив, что настало время вмешаться, вскочил на ноги и, колеблясь, точно ивовый прут, который воткнули в землю и, потянув за искусно очищенную от коры макушку, вдруг отпустили, издал редкой эксцентричности вопль, затем череду трелей, – увы, литературные условности позволяют нам передать их лишь стилизованным «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха» – и завершил это вступление таким сообщением:
– А Титус-то! Клянусь всем, что есть бесконечно малого! Господь-благослови-мою-душу, не иначе как его акула сожрала!
Сказать, какая из пяти голов повернулась быстрее, мы не возьмемся. Возможно, голова нянюшки Шлакк на долю секунды отстала от прочих – по той двойной причине, что и шея ее не отличалась особенной гибкостью, и любому восклицанию, сколь бы драматичным оно ни было и как бы сильно ни затрагивало предмета ее непосредственных забот, требовалось некое время, чтобы добраться до нужного раздела ее путанного умишка.
Впрочем, слово «Титус» отличалось от всех остальных хотя бы тем, что смогло отыскать кратчайший путь, просквозивший клетки ее мозга. Сердце Нянюшки вскочило, так сказать, на ноги быстрее, чем мозг и, бездумно подчинившись ему, она, еще до того, как тело ее осознало, что получает какие-то распоряжения по обычным каналам, уже торопливо затопотала к воде.
Она не потрудилась задуматься ни о том, могут ли в простиравшейся перед нею пресной влаге водиться акулы; ни о том, стал ли Доктор бы столь легкомысленно высказываться относительно гибели единственного наследника рода; ни о том, что если акула и вправду съела Титуса, то она, нянюшка Шлакк, навряд ли сможет тут что-то поправить. Она знала только одно: нужно бежать туда, где прежде был Титус.
Старые слабые глазки позволили ей увидеть мальчика лишь после того, как она одолела половину разделявшего их расстояния. Но и это нисколько не снизило скорости, которую ей удалось развить. Акула-то все едино могла, того и гляди, слопать его, хоть еще и не слопала; и когда Титус наконец оказался в объятьях старушки, его оросил слезный душ.
Заковыляв со своей драгоценной ношей назад, она бросила на сверкающий водный простор последний опасливый взгляд, сердце ее гулко билось.
Доктор Прюнскваллор сделал на цыпочках несколько неровных шагов ей вослед, все еще не понимая, какие сокрушительные последствия могла иметь его шуточка. Но понимая, однако ж, что, поскольку без акулы все равно теперь не обойтись, будет лучше, если госпожа Шлакк сама сорвет ее злодейские планы, к будущему своему вящему удовлетворению, – он опасался лишь, как бы Нянюшка не надсадила старое сердце. То, чего Доктор надеялся достичь этим удивительным восклицанием, было достигнуто – дурацкая распря прервалась, а нянюшка Шлакк была избавлена от дальнейших унижений.
Некоторое время близнецы пребывали в полнейшей растерянности.
– Я ее видела, – сказала, наконец, Кора.
Кларисса, ни в чем сестре уступать не желавшая, тоже видела ее, и не менее ясно. Ни ту, ни другую акула особенно не заинтересовала.
Когда Нянюшка, еле дыша, уселась на ржавый ковер, и Титус выскользнул из ее рук, Фуксия повернулась к Доктору.
– Не стоило вам так поступать, доктор Прюн, – сказала она. – Но, господи, как же это было смешно! Вы видели лицо госпожи Прюнскваллор? – Она хихикнула, впрочем, без веселья во взоре. И следом: – Ох, доктор Прюн, напрасно я это сказала – она же ваша сестра.
– Вы были к ней справедливы, не более того, – сказал Доктор и, приблизя все зубы свои к уху Фуксии, прошептал: – Воображает, будто она – леди. – Тут он улыбнулся да так, что, казалось, того и гляди заглотнет озеро. – Подумать только! бедняжка. И ведь как старается, и чем больше старается, тем хуже у нее получается. Ха! ха! ха! Поверьте мне, Фуксия, дорогая, единственные леди на свете суть те, кто никогда не задумывается – леди они или не леди. С происхождением у нее все в порядке – у Ирмы, – как и у меня, ха-ха-ха! но ведь это не происхождением определяется. Соразмерность, цыганочка моя, соразмерность, вот в чем вся штука – с добавлением изрядной доли терпимости. Батюшки, уж не добрел ли я, часом, до околицы серьезности, да оберегут небеса мою несуразную душу. Ах ты ж, господи, похоже, что так!
К этой минуте все они уже сидели на ржавом ковре, образуя монументальную группу, наделенную редкостным благородством очертаний. Ветерок по-прежнему порывисто пронизывал рощу, ероша поверхность озера. Ветви деревьев за ними терлись одна о другую, и листья их, подобные миллионам заговорщицких языков, хрипло вышептывали всякую ересь.
Фуксия совсем уж было собралась спросить, что такое «соразмерность», когда глаза ее уловили под деревьями дальнего берега какое-то движение, а миг спустя она удивленно уставилась на колонну людей, спустившихся к воде, вдоль которой они устремились на север, исчезая и вновь появляясь, по мере того, как росшие в воде кедры сгущались, заслоняя их, и вновь разрежались.
Все они, кроме человека, шедшего впереди, несли на плечах мотки веревки и древесные ветви, все, кроме главенствующего, были, похоже, людьми немолодыми, поскольку шагали тяжело.
То были Плотостроители, направлявшиеся в освященный традицией день по традиционной тропинке к традиционному ручью – к затянутой знойным маревом, защищенной искрошенной изгородью и кустами бухточке, чьим пескарям, головастикам и мириадам микроскопических мальков, сновавших в нагретой, мелкой воде, предстояло столь скоро лишиться покоя.
Сомнений насчет того, кто возглавляет шествие, никто не питал. Невозможно было не признать этой проворной, но в то же время и шаркающей, бочком-бочком, походки, этого страшновато неспешного перемещения – ни тебе ходьба, ни пробежка, – этого припаданья к земле, как бы в стремлении принюхаться к следу, но и свободного, легкого паренья над нею.
Фуксия зачаровано наблюдала за ним. Не часто случалось ей видеть Стирпайка, не знавшего, что за ним наблюдают. Доктор, проследив ее взгляд, также узнал молодого человека. Розовое чело Прюнскваллора затуманилось. В последнее время он много размышлял о том и о сем – то по преимуществу касалось непостижимого и неуяснимо «чужого» юноши, сё по большей части сводилось к загадочному Пожару. Слишком уж странное обилие таинственных происшествий вместили последние месяцы. Не имей они значения столь важного, Доктор, пожалуй, отыскал бы в них разве что развлечение. Неожиданное столь приятно оживляло монотонность бесконечного повторения неколебимых ритуалов Замка, однако Смерть и Исчезновение не походили на лакомые кусочки, возбуждающие пресыщенного гурмана. Слишком велики они были, чтобы их проглотить, да и на вкус отзывали желчью.