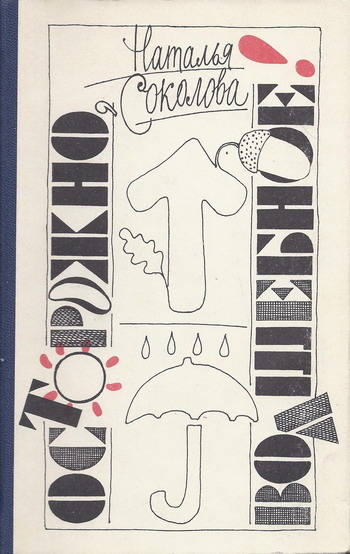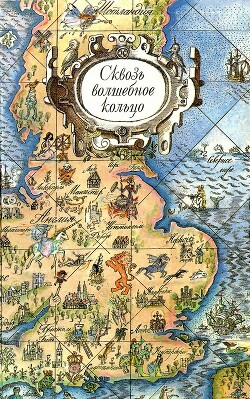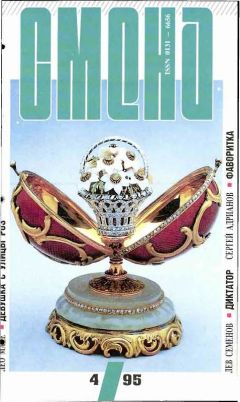операции. Ну не надо, ну, родная...
Я как-то смутно, невнятно вспоминаю теперь события этой ночи. Путаюсь, сбиваюсь, когда хочу восстановить их последовательность.
Меня отвели (кто отвел, не помню) в технический кабинет. Комнату Ценципера надо было запереть, а здесь мне разрешили оставаться до утра. Горела одна только лампочка, слабо освещая просторный зал, длинные ряды пустых скамеек и громоздкий пустой ящик для докладчика, с прислоненной к нему указкой, которая отбрасывала тонкую изломанную тень. Казалось, самый воздух тут еще не остыл, был насыщен гулом и жаром дневных дел, хранил долгое протяжное эхо многоголосых дневных разговоров - вместе с едва заметным привкусом папиросного дыма, который, наверное, сколько ни проветривай, никогда не улетучивался совсем.
«Победим брак!» - кричали стенды. «Будем выпускать детей только первого и высшего сорта!» Стояла сильно увеличенная модель ребенка с опущенными пухлыми ручками и полузакрытыми глазами - на нее падал слабый неровный свет, и казалось, что ресницы иногда вздрагивают, шевелятся, лукавая полуулыбка морщит рот. Большие красные стрелы, остро нацеленные то на колено ребенка, то на плечо его, то куда-то под мышку, предостерегали: «Берегись дефектов при натяжке! В этом месте легко допустить грубую нахлестку стыков». Или: «По твоей вине тут может получиться перекос слоев и отклеивание кромки боковины».
За окнами, запотевшими, с подтеками сырости, голубели снега переулка, ватные крыши каких-то приземистых заводских служб и расплывались, лучились редкие пятна фонарей. Изредка по переулку проходила одинокая машина, и красные огоньки, вспыхнув, прочертив изогнутую линию, исчезали за поворотом заводской ограды, как исчезает тлеющий уголек брошенной папиросы.
Несколько раз прибегал разрумянившийся Андрей, в сбитой на затылок меховой шапке, принося с собой дыхание зимы, морозной свежести.
- Гладких согласилась... Раскопали чертежи... Гладких уже приступила...
Когда он уходил, я, оставшись один, снова вставал у окна и смотрел сквозь запотевшее, схваченное по краям ледком стекло на пустые плоские белые дворы, прямоугольно обрезанные, на пустые плоские белые крыши приземистых строений, теснящихся одно к другому, на тоскливо пустую и безнадежно плоскую кирпичную стену с покачивающимися тенями длинных голых веток.
Звонил Ценципер - уже из дому. Звонила Майка - ее дрожащий голосок сменялся грубым командирским голосом докторши.
Мальчик жил. Мальчик ждал. Мальчику делали уколы. Мальчику не давали уснуть - после уколов это опасно. Можно уснуть и не проснуться. С ним разговаривали, играли, шутили, Адель Марковна принесла свои драгоценные хрупкие статуэтки вьесакс. Тесть, присев на корточки, показывал кукольный театр.
...Помню, уже после двух я занимался с Андреем, доказывал в его клетчатой тетрадке все ту же теорему. Неожиданно он заснул, совсем по-детски уронив кудрявую голову на сложенные руки. Потом встряхнулся и, крепко протирая ладонью заспанное розовое лицо, стал торопливо извиняться:
- Вот стал освобожденным работником комитета. В цеху, там легче было. Последнее время я был старшим контролером ОТК. Проверишь детали, выдалось окно - сиди занимайся. А на комсомольской работе окон не бывает. - Андрей наклонился над тетрадкой. - Нет, как вы это здорово все... Сложные формулы, и прямо из головы. Счастливый человек!
И запнулся, смутился.
Андрей не возвращался уже больше часа.
Я все ходил по залу туда и обратно, туда и обратно, мимо макетов, стендов, плакатов, одних и тех же, настойчиво повторяющихся, неизменных.
Мелькали обрывки мыслей, фраз, какие-то разрозненные картинки, как будто кадры плохо смонтированной любительской киноленты. Пальцы Каменского, просеивающие пряди волос... Сборщицы, строгие, чистые, святые. А ведь одна из них собирала сердце нашего Мальчика... Качество. Качество человеческих отношений... Ценципер в венчике из седых перьев... «не надо объяснять, у самого трое»... телеграфный Ценципер с его жестким профилем и мягким сердцем... А ведь кто-то, такой же, как Ценципер, в соседнем с ним кабинете, возможно, совсем не злой, возможно, хороший семьянин, взял и подписал бумажку: «Опытную партию детей типа Ж-3 - в продажу». Был, наверное, конец месяца... завод не выполнял план, не хватало какой-то ерунды, тысячных долей процента...
Да. Он подписал.
Он в своей жизни никогда не обидел, не ударил ребенка - ни своего, ни чужого. Он, возможно, мой сосед по квартире, по дому - сейчас, заспанный, звонит в нашу дверь и спрашивает у Майки, у тещи, не надо ли сходить в аптеку, чем можно помочь. Добрый, симпатичный...
Забрел ко мне на огонек ночной сторож. Это был говорливый дед с небритым рыжеватым жнивьем на щеках, в поношенной гимнастерке без ремня и мягких, неслышных валенках.
- Закурить нечего? Да ты поищи, пошарь по карманам, милок. Значит, не имеется? Так. - Он вздохнул. И извлек собственный «Беломор». - Посижу тут у тебя, все ж таки живая душа. Детальку ожидаешь? Я в курсе, предупрежденный.
Поинтересовался, с кем я имел дело на заводе.
- Каменский? Знаем, как не знать. Показательный человек. Его у нас завсегда гостям показывают. Не горячится, матом не ругается. Аккуратный, культурный. Что ж, оно неплохо. Только... - Дед прищурился, посасывая изжеванную, почти у самых губ дымящуюся папиросу. - Только наши комсомолы как думают? Раз мата не употребляет, хороший человек. Раз употребляет плохой. Эх-хе-хе, если б так просто было плохих от хороших отличать! Быстро бы тогда царство небесное на земле устроилось. - Последний раз затянулся и с сожалением пригасил окурок. - Так нету у тебя, говоришь, папироски? Не завалялось? - Вздохнул. - Хорошие люди мерли на Волоколамском в сорок первом, кишки с кровью на снег валились. Святые люди! А мату было... Или в сорок втором, под Свердловском. Завод эвакуировался, считай, на голое место. Руки к железу примерзали, рукавиц нет, ватников нет, кранов и в помине. Ругнешься в бога-мать, вроде теплее стало, смотришь, балка, матушка, сама пошла...
- Без мата лучше. Давно пора без мата.
- Кто будет спорить? - Дед упрямо покачал головой. - Но скажу я тебе так, милок: иной хоть и матюгается, от горячки своей, от необразованности, но душа есть. За рисковое дело берется, в драчку идет. А Каменский - ему что? Внедряли пневматику, специально подгадал в отпуск идти. Или еще... Авдееву за полгода до пенсии уволить хотел. Мать его, говорят, плакала: стыдно в заводском доме жить, побоялся бы людей. - Он пожевал окурок, остро глянул на меня прищуренным глазом. - От начальства можно скрыться, дело известное. От людей не скроешься, люди все видят...
Вошел Андрей.
- Нету закурить? -