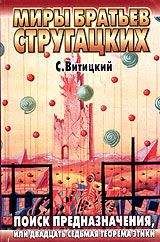— Не знаю, — сказал Эль-де-през и подтянул к себе непослушные ноги.
— Что это было? — спросил Петюня, помогая ему подняться.
— Не знаю...
Ноги были ватные, но держали, а на руках почему-то не оказалось перчаток, и обе ладони были в ссадинах — продольные ранки распухли, сочились сукровицей, и он машинально лизнул их, как в детстве.
— Ты его видел? — спросил Петюня. Лицо его, румяное и спокойное, ничего не выражало, кроме деловитого интереса. Смоляные волосы стояли торчком, как всегда, и как всегда он был аккуратен и готов к любому повороту событий. Только вот «макаров» у него в руке смотрелся не совсем все-таки обычно.
— Не знаю, — сказал Эль-де-през в третий раз и спросил сам: — Профессор как?
— По-моему, ...дец, — сказал Петюня.
Он больше уже не вглядывался в лицо Эль-де-преза, он смотрел поверх его головы, на площадь, искал там глазами что-нибудь достойное внимания и, видимо, не находил.
— Точно, не видел? — спросил он снова.
Тогда Эль-де-през, сделав над собою усилие, развернулся на сто восемьдесят градусов и тоже стал смотреть на площадь. Там было полно бегающих людей, орущих во всю глотку и явно не знающих, куда бежать и где укрыться. Это было бы похоже на панику тараканов в ванне, но было там и еще довольно много таких, которые не бегали, а лежали на снегу — человек двадцать, а может быть, и пятьдесят, они лежали поперек площади, образуя какую-то почти правильную фигуру, длинный овал, протянувшийся от бульварчика досюда. Некоторые шевелились и как бы пытались встать, но большинство лежало неподвижно. Совсем неподвижно. Похоже, им тоже был ...дец.
— Вон там что-то было, — сказал Эль-де-през. — На бульварчике, в кустах.
— Что именно?
— Говорю тебе — не знаю. Не видел.
— А почему ты сказал «атас»?
— Потому что почуял.
Петюня посмотрел на него, сделав губы дудкой.
— Ну да, ну да. За это тебе и деньги платят... А сейчас чуешь что-нибудь?
— Не знаю. Скорее, нет.
— Ладно, — сказал Петюня решительно. — Пойдем посмотрим.
Они спустились по пандусу и пошли через площадь — Петюня (с «макаровым» наголо) впереди, Эль-де-през следом, — на ватных ногах, в которых, словно он их отсидел, забегали теперь огненные искры. Слева, на тротуаре, толпились люди, они стали тише, орали, но не так пронзительно, как раньше, и их стало заметно меньше — видимо, самые напуганные убежали отсюда совсем, а остались самые неистребимо любознательные... А справа — где черные тела — было совсем тихо, только сухой надрывный кашель там раздавался, мучительный и множественный, как беспорядочная стрельба.
И стоял сильный, горьковатый и совершенно здесь неуместный запах — не то взбаламученной старой пыли, не то горелой бумаги.
— Петюня, ты запах слышишь какой-нибудь?
— Ну?
— Чем пахнет?
— Пахнет, что мы с тобой остались без работы, — сказал Петюня и хохотнул невесело, оглянувшись через плечо скошенным свирепым глазом.
Он сказал и еще что-то, но тут в толпе слева совсем уж истошно завопили («Скорую! Скорую вызывайте, козлы!..»), и Эль-де-през Петюню не услышал, а переспрашивать не стал. Петюня был шутник, а сейчас было не до его шуток. Эль-де-през осознал наконец, что произошло, и это осознание обожгло его так, что он окончательно опомнился. Он дело провалил. Хозяин поручил ему дело, а он это дело провалил. Первый раз в жизни, но зато уж — целиком и полностью, и без каких-нибудь разумных оправданий... Но ведь я ничего не мог сделать, подумал он отчаянно. Невозможно было что-нибудь сделать... Он понимал, что это — не оправдание. Да он и не пытался оправдываться. Так, бессмысленное бормотание это было — убогое бормотание покалеченной профессиональной чести. Слушать это бормотание никто не станет, да и некому его будет слушать...
Петюня шагал быстро, и они уже оказались на бульварчике, среди кустов, сугробов и серебристых деревьев. Здесь было сумрачно и пустовато, — только в отдалении кучковались беспорядочно какие-то темные, неуверенно движущиеся туда-сюда личности. И тихие собаки. Все как один эти люди были с собаками. И больше ничего здесь, конечно же, не было. Мертвенно светили ртутные лампы сквозь переплетения ветвей. Снег был весь затоптан, собачьи какашки чернели, и среди этих какашек, в самом конце бульвара лежало неподвижное тело со свалившейся в снег шапкой. Черный беспризорный пудель с волочащимся ремешком бродил тут же неприкаянно, и Эль-де-през мельком отметил, что собаку бьет крупная дрожь, и вспомнил почему-то про Мефистофеля... Какая-то связь была между этим черным пуделем и Мефистофелем... он забыл какая.
— Ну что? Чуешь здесь чего-нибудь, нет? — спросил Петюня, настороженно озираясь.
— Нет. Понимаешь... остыло уже все... Не знаю, как тебе объяснить...
— Надо же, ты посмотри, как они все лежат, — сказал Петюня. — Как сигара, точно?
Он засовывал «макаров» в кобуру за пазухой и глядел на это неправдоподобно правильное пятно, образованное на заснеженной площади лежащими телами. Это действительно была — сигара. В ближнем острие ее они сейчас стояли, а дальнее — упиралось в балюстраду, где теперь никого уже не было, только метались заполошные штабисты без пальто и без шапок. Словно язык ядовитого пламени из некоей гигантской форсунки вылетел откуда-то отсюда, из-за кустов, и выжег всех, кто оказался на пути к намеченной цели.
— Огнемет, — сказал Петюня. — Или газомет какой-нибудь.
Не было никакого огнемета, хотел сказать Эль-де-през, но не сказал, потому что Петюня и сам знал, что не было ни огнемета, ни газомета, а было здесь что-то такое, о чем они никогда раньше не слыхивали. Да и никто, наверное, не слышал.
— Больше всего это было похоже на лазер, — сказал все-таки Эль-де-през. На всякий случай. Он понимал, что — зря.
— А почему тогда — сигара? — сейчас же возразил Петюня. — Пшел, пшел отсюда, — сказал он пуделю, который попытался к ним приблизиться. — Пшел, говорю!
— Отстань, — сказал Эль-де-през нервно. — Не трогай его.
— Да ну его в жопу! Терпеть ненавижу блохастых.
— Может быть, он — этого... вот этого...
Петюня наклонился и сунул два пальца за воротник лежащему, потом снова выпрямился, вытер пальцы об куртку и, весь скривившись, покачал головой. Лицо у лежащего было серое, свинцовое, безжизненное, и Эль-де-през вдруг снова почувствовал запах горелой бумаги. Он заставил себя присесть на корточки. Запах шел от тела. Но никаких следов огня не было. И вообще не было никаких следов поражения. Просто лежал, подломив под себя тряпочные руки, мертвый человек с полуоткрытым ртом и стеклянными глазами на темном, сильно небритом лице. Бомж какой-то. Неподвижный, брошенный кое-как, в точности такой же, как и те несколько десятков, что на площади. И пахло от них от всех горелой бумагой. Или подгоревшей кашей. Или паленым волосом... Но на площади все-таки оставались живые. Двое или даже трое — шевелились, а один вообще поднялся и, сгибаясь в мучительном раздирающем кашле, пошатываясь, почти с ног валясь от этого кашля, брел сейчас прочь, куда-нибудь, подальше отсюда...