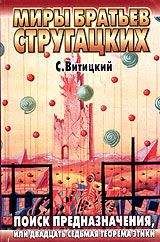— Ну? — сказал Петюня нетерпеливо. Он, видимо, все еще ждал от Эль-де-преза откровений. Петюня был простой человек: обосрались — ладно, давай хоть информацию какую-нибудь соберем. «Что именно произошло? Каким образом? Где располагался? Как ушел?..»
Эль-де-през заставил себя шевелиться — еще раз огляделся (ничего нового не обнаружил), обогнул тело, трясущийся пес сунулся ему в ноги унылой мордой, он осторожно обогнул и пса (мельком подумал: вот бы кого сейчас допросить — этот, наверное, все видел), на снегу вдоль кустов было много собачьих следов, человеческих не было совсем, а по ту сторону кустарника снег и вовсе лежал нетронутый. Похоже, палили прямо с дорожки, из-за спины этого... который с пуделем... поверх его головы и поверх толпы: балюстрада отсюда отлично просматривалась, театрально освещенная прожекторами. Выпалил и — ушел себе, не торопясь, в сторону Белоберезовой, где фонарей — раз-два и обчелся, и где у него, скорее всего, стояла машина. А может быть, и вверх по бульвару ушел — спокойно, по дорожке, без паники и суеты, между деревьев, между собак и собачников...
— Я вот чего не понимаю, — сказал он Петюне. — Ведь я его почуял. Однозначно. Но почему я уверен был, что ничего нельзя сделать? Ни прикрыть, ни спрятать — ничего. Безнадежно было, понимаешь?..
Он замолчал, потому что ни рассказать, ни объяснить толком он все равно ничего не умел. Да и бессмысленная это была затея — объясняться с Петюней. При чем здесь Петюня? Ты свои объяснения прибереги лучше на будущее, подумал он неприязненно. Тебе теперь всю жизнь придется объяснительные писать... «Лучший друг президента», мудила-грешник... А что я мог, спрашивается? Мое дело маленькое: я должен был его почуять. Почуял? Почуял. И что? А ничего! Ничего нельзя было сделать. Вот этого мне никогда и никому не объяснить, подумал он с отчаянием. Как объяснить, откуда я знал, что ничего нельзя было сделать...
— А ты-то? — сказал он Петюне. — Неужели ничего не видел? Совсем? (Петюня помотал румяными щеками.) Совсем ничего?
Он не ждал серьезного ответа. С какой стати? Но Петюня вдруг ответил — вполне серьезно, хотя и коротко. Он ничего не видел. Все было совершенно нормально, а потом он услышал «атас», тут же (по инструкции) повернулся, чтобы заслонить «тело», но Профессор уже падал — как стоял, с поднятой рукой, — падал на спину, и его тут же подхватили Фанас с Толяном.
— ...А ты стоял на коленях и вроде бы пытался перебраться за перила, а потом повернулся и сел спиной. И, похоже, тут же вырубился вчистую...
— И выстрела не видел?
— Не было выстрела.
— А что было?
— А ни хрена не было, — сказал Петюня Федорчук. — Вдруг все начали падать, а другие заорали и забегали туда-сюда как тараканы... Да пош-шел ты, каз-зел! — прошипел он с ненавистью и пнул в бок пуделя, который опять попытался приблизиться.
Пес, издавши екающий звук, отскочил и опрометью бросился прочь. Он поскакал вверх по бульвару, опустив голову, свесив уши до земли и уставив нос в снег, словно пытался обнаружить там что-нибудь жизненно для себя важное. Поводок волочился следом, подпрыгивая на замерзших какашках.
Эль-де-през смотрел, как он бежит, и думал: взять его домой, Сережке-маленькому? То-то радости было бы. Но ведь и этого даже нельзя: аллергия, мать ее туда и сюда. Ну что за жизнь такая паршивая, беспросветная! Ничего нельзя, и ничего впереди нет хорошего, кроме гнилых неприятностей...
Он все еще смотрел вслед убегающему псу, когда заклекотали, завыли, засверкали огнями по площади налетевшие сразу с трех сторон «ноль-тройки» и милицейские «луноходы».
Лирическое отступление № 6. Жизнь продолжается
...Я ничего толком не знаю об ее болезнях. Знаю, что был у нее рак. Вырезали, вроде бы благополучно («...как в мешочке вынули...»). Знаю, что она с тех пор ждала возвращения этого рака, дождалась, перенесла вторую операцию, тоже вроде бы благополучную. Наверное, ждет его и сейчас, если она сейчас вообще чего-нибудь ждет.
Я помню ее молодой и прекрасной. Я был влюблен в нее по уши, как и все мы, вся наша бригада. Гарцевали вокруг нее словно лейб-гусары, через всю комнату, толпой, бросались — огоньку поднести к сигаретке, остроумием блистали, выпендривались друг перед другом в меру своих возможностей каждый, а потом, когда она уходила из комнаты, очумело глазели друг на друга: что это с нами, ребята, господи?..
На наших глазах она превращалась в сухую крючконосую ведьму с длинной белесой щетиной на подбородке. Оставались только ореховые глаза и бархатный ее голос, но и этого было достаточно для нашего ею восхищения.
Однажды — она как раз вернулась домой после второй операции — я подслушал случайно, как она сказала ему с ужасом: «Вот это вот — я, посмотри». Это было на кухне. Потрошеная курица лежала на кухонном столе — белая, голая, с пупырчатыми ляжками и бесстыдным черным отверстием между ними... «Потрошеная курица, — сказала она с ужасом и повторила: — Кура потрошеная...» Именно с той поры она и начала пить.
Бесконечные карточные пасьянсы за кухонным столом. Ликеры. Наливки. А потом и обыкновенная водочка — по бутылке в день, а потом и по две... Приемник на подоконнике, на голове — скоба наушников, по клеенке — россыпь карт, полупустая бутылка и стакан тут же — обыкновеннейший наш вечерний натюрморт. Я думал, она слушает музыку, но однажды, когда она заснула, уткнувшись лицом в клеенку, я осторожно снял наушники и послушал — чистый детский голосок выводил там: «Аве Мария грацья плейна Доминус тейкум бенедикта ту ин мульерибус ет бенедиктус фруктус вентрис туи Йезус...» И детский печальный хор подхватывал: «Санкта Мария матер деи ора про нобис пекаторибус...» А потом тишина, космическое молчание и снова — «Аве Мария грацья плейна»... Я позвал его, и он с трудом дотащил ее, волоком, до постели — она была уже худая, но большая и все еще тяжелая тогда. Это теперь она съежилась, словно мертвый воздушный шарик...
Роберт сложил распечатку пополам, еще раз пополам, подумал секунду, а потом решительно порвал странички в лапшу. Никому это не покажешь. Да никому это и не нужно. Жизнь продолжается. Жизнь все равно продолжается: вот уж и воскресенье на исходе, а понедельник — на носу. Звонить Тенгизу — напомнить еще раз, или достаточно уже? Достаточно, решил он. Он старался не думать о завтрашнем дне: зашторенная палата, болезненная желтизна ночника, мертвенный дух поганой неопределенности — еще не смерти, но уже и не жизни тоже... Отвлекись, приказал он себе и послушно отвлекся — взял листочки с сегодняшней порцией последней сэнсеевой статьи, пробежал глазами полузнакомый текст — сэнсей внес-таки изменения и добавил кое-что для вящей понятности.