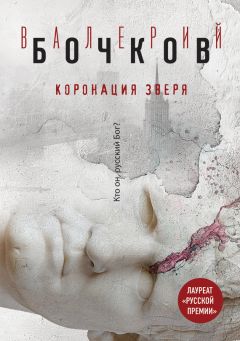Брюнетку как-то звали, Лола или Нона, что-то созвучное с цветом ее липких губ. Я подглядывал, как отец целовал ее на корме за шлюпками, как она закидывала назад голову и глухо смеялась, словно полоскала горло. А отец мял ее грудь в белой блузке, отвратительно яркой на фоне бархатного неба. И сонная звезда, прочертив дугу, тихо падала в лиловое море.
Отец был однолюбом. Все его девицы с большим или меньшим успехом могли бы сойти за мою мать. Внешне, разумеется. При определенном освещении, под нужным углом, при достаточной удаленности или неважном зрении. Я уверен, что отец любил мать не меньше меня. Мы оба тосковали без нее, просто каждый по-своему. В апреле мне стукнуло двенадцать, отцу еще не исполнилось сорока.
Мать мне всегда вспоминается почему-то зимняя – в морозной шубе с холодным, звериным духом пушистой шерсти. Вот она осторожно ступает мелкими шагами по нашим обледенелым мостовым, с изящной осторожностью, грациозная, как циркачка на звонкой проволоке под самым куполом. Живое дыхание искрится мутным паром в желтых фонарях, тихий смех, тонкие пальцы – все это где-то в районе Кудринской. Пахнет елкой, хрустит снег, плитка шоколада тает в моем кармане. Уже нет и Кудринской, нет матери, уже почти нет и меня.
Тогда, на палубе, я больше всего боялся, что отца застукают. Выйдут на корму какие-нибудь пассажиры полюбоваться ночным небом или появится строгий помощник капитана с золотыми галунами. Не знаю, почему меня это так тревожило. Я прятался в полосатой тени шезлонгов, кусал губы. Ледяная рубаха прилипла к спине, я прислушивался к странным корабельным звукам – утробному гулу, низкому, на одной басовой ноте, к мощи гигантского мотора, к плеску воды где-то внизу. К стонам Лолы или Ноны.
Наконец все закончилось. Они сидели у лодки, закрытой брезентом и похожей на спящего носорога. Лола (пусть будет Лола) нашла свой лифчик, сунула его в сумку, звонко щелкнув кнопкой. Отец затянулся, выдул дым сизым столбом вверх, передал сигарету девице. Лоле. Дотянулся до бутылки, запрокинув голову, сделал несколько глотков. Заговорил. Голос был странный, монотонный, таким бредят или разговаривают во сне. Речь шла обо мне.
– Я будто стесняюсь своей любви к нему. А ведь это самая естественная вещь на земле – любовь отца к сыну. – Он замолчал и добавил: – Ну, не считая любви матери, но в нашем случае…
Мне было стыдно и страшно. Стыдно от того, что он, мой отец, вот так, в легкую, раскрывает душу первой подвернувшейся дуре-девке, этой Лоле-Ноне. Этой безмозглой кукле. Страшно, что я сейчас услышу что-то такое, после чего уже невозможно будет жить по-старому.
– Это единственная страсть, которую я не способен выразить. На выходе из моей души обнаруживается постный бульон. Вроде бесплатного супа… Бесплатный суп, которым я кормлю самого близкого мне человека. Душевная инвалидность какая-то…
Он вынул сигарету из Лолиных пальцев, глубоко затянулся.
– Я вспоминаю своего отца… – Он выпустил дым. – Вспоминаю ту же неловкость жестов, казенность слов. Отчего? И почему я прохожу тот же путь? Мучительный и глупый. Почему я не лучше, не умнее? Почему я ничему не научился? Ведь я на своей шкуре все это испытал и совсем не хочу того же для своего сына!
Отец щелчком выбросил сигарету. Окурок не перелетел через борт, а, ударившись в поручень, рассыпался рыжим фейерверком. Повисла тишина, потом где-то на нижней палубе уронили поднос, полный стекла.
Память собрала странную коллекцию событий, лиц, фраз, необъяснимую своей случайностью, эклектичностью. Я отчетливо помню тот оранжевый фейерверк и тот стеклянный звон. Почему именно это? Полное отсутствие системы, элементарной логики, меня, человека вполне рационального, отчасти расстраивает. Почему застрял в памяти стюард в тесном кителе и с острым кадыком, на кадыке рубиновый штрих – порез от бритвы, зачем мне нужен каютный запах – странная смесь прибоя и прачечной, отчего я не могу вытрясти из головы ту толстую тетку – она валялась на палубе, как глупая кукла с голыми грязными пятками, а на нее наступали бегущие ноги пассажиров? Эти пустяковые обрывки, туманные и безобидные, имеют гнусное свойство (обычно ночью, под утро) сплетаться в крепкую петлю, уверенно стягивающую мой мозг, мое сердце, мою волю.
Третий вечер на «Ливадии». Мы неслись на запад, в сторону малинового солнца, большого и страшного, как окно в ад. В круглой дыре жидко пульсировала лимонная лава, пузырилась ртуть. Солнце коснулось горизонта и будто сплющилось, я стоял на носу и до слепоты пялился в страшную дыру в небе. Еще страшнее была та спешка, с которой «Ливадия» неслась вперед. От вибрации зудели руки, сжимавшие горячий поручень, щекотало в небе, палуба под подошвами моих теннисных тапок тревожно гудела. Мы шпарили так, словно боялись опоздать.
Ну и конечно, опоздали – солнце село без нас.
В тот вечер отец играл Дебюсси. Играл отменно, звук получался летящий, яркий и светлый. Почти божественный. Может, это был какой-то тайный знак оттуда, сверху? То особое состояние, когда каждое дивное глиссандо за тебя выдувал чуткий ангел и мелодия сама сплеталась в идеальный узор, отец называл «экстазом святой Терезы». По его признанию, случалось такое не часто.
Отец, подавшись вперед, стоял на самом краю полукруглой эстрады, золотой «Бюффе-Крампон» сиял в его руках, как языческий идол. Будто жрец в трансе, отец чуть покачивался в такт, словно помогал звукам, нежно подталкивая их в зал, к людям. Люди по большей части пили, смеялись и болтали. Не слушали. Я не уверен, что, кроме нас двоих, кто-то вообще понимал, насколько волшебно играл сегодня отец. Разумеется, за исключением ангела, причастного к процессу, уж он-то наверняка знал, что тут творится.
Я разглядывал пассажиров, постепенно наливаясь злобой ко всем этим тугоухим обжорам и пьяницам, к их хохочущим подругам, которых я уже почти поголовно классифицировал как рыбообразных и птицеподобных. В исключение угодили две хавроньи – маленькая и покрупней, да еще картонный муляж моей мамы по имени Лола. Было девять часов вечера. Никто, включая меня, не знал, что через четыре с половиной часа «Ливадия» налетит на плавучую мину, начнется пожар, двери между перегородками не выдержат напора воды и корабль затонет через сорок пять минут после взрыва. Экипаж успеет спустить всего четыре шлюпки. Спасется тридцать два человека.
В момент взрыва я был на палубе. Началась паника. Какой-то матрос – спаси бог его душу, – нацепил на меня спасательный жилет и выкинул за борт. Я видел, как на корабле что-то взорвалось. Столб белого огня полыхнул до самых звезд, осветив пустынную воду от края до края. Тугое эхо укатилось за горизонт, и сразу раздался железный стон, протяжный и жуткий, словно кто-то решительно смял стальной лист. Корпус корабля сложился пополам, и за несколько минут «Ливадия» ушла на дно. Меня накрыло волной, я потерял сознание. Очнулся я в шлюпке.