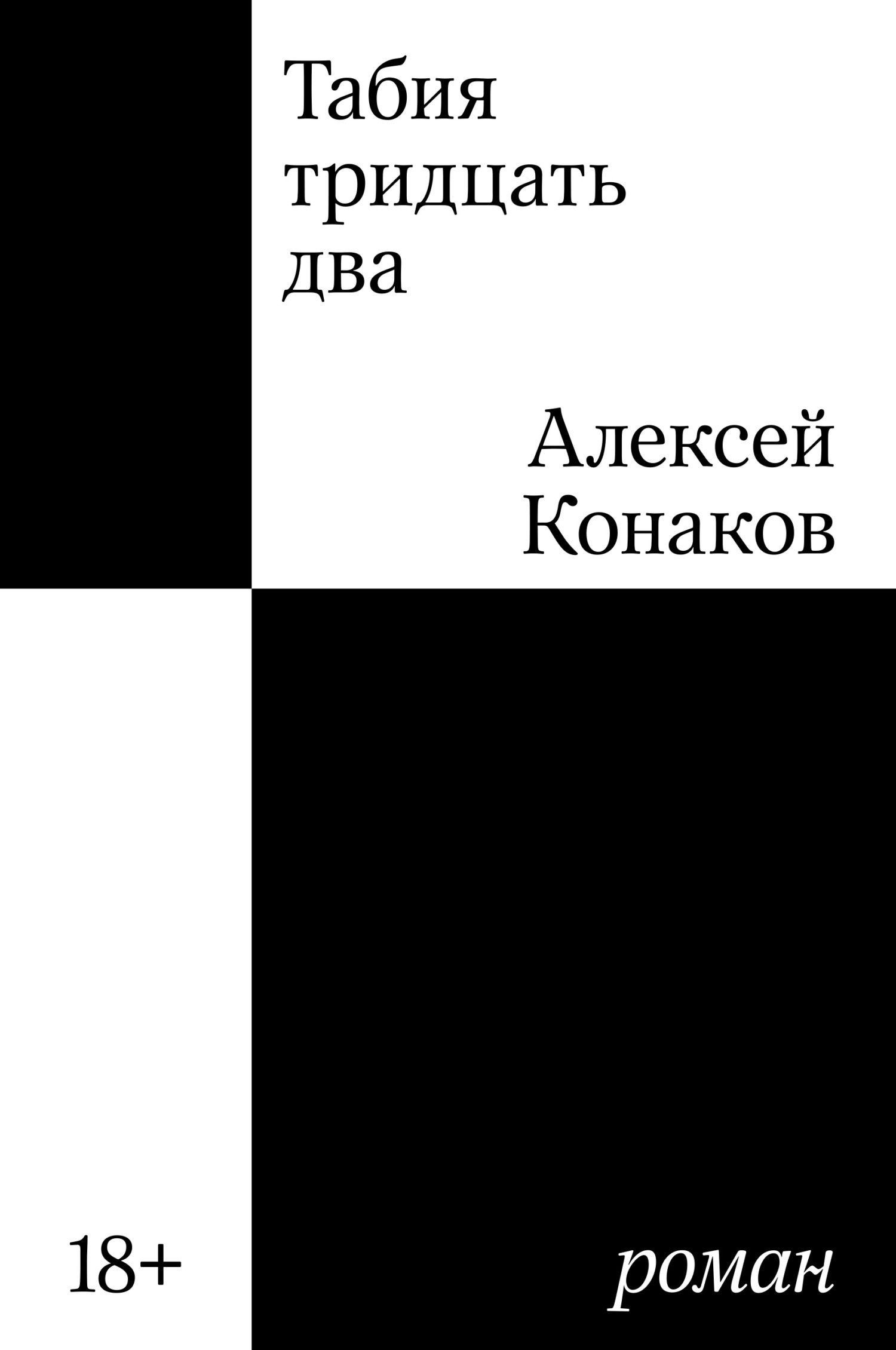подменяющие аргументацию риторикой), и у Кирилла возникала масса вопросов: почему культура «молода»? почему «хрупка»?
И что такое страшное угрожает России?
Абзалов довольно подробно (и довольно скучно) отвечал Кириллу, рисовал схемы, ссылался, заглядывая в необъятную картотеку, на какие-то статьи и подчеркивал, что «постулаты Уляшова образуют связную и логичную систему, позволяющую описывать положение дел в культуре». Но в чем суть системы – так и оставалось неясным.)
Здесь размышляющего Кирилла приводит в себя легкий удар подушкой.
Ах, говорит Майя, из-за твоих жалоб на Абзалова я чуть не забыла сообщить самую главную новость! Кирилл замолкает, глядя на подругу (тишина; только счастье звенит в ушах). Новость, продолжает Майя восторженно, такая: папа рассказал вчера вечером, вышла новая резолюция ООН по России, там отмечаются всяческие успехи страны, и благоприятный прогноз, и… решение снять Карантин на пять лет раньше! Каисса, Каисса! Вот это восклицательный знак! Я так обрадовалась! ООН уже второй раз за пятнадцать лет уменьшает срок. Если они продолжат такими темпами, открытие состоится до конца XXI века. Представь, мы еще сможем увидеть весь остальной мир. О, Кирилл, а если бы Карантин сняли прямо сейчас и у тебя были бы деньги, много-много денег, куда бы ты поехал? Кирилл улыбается: я всегда мечтал увидеть Вейк-ан-Зее. А ты?
– А я бы в Линарес!
– Оу! Да!
Он целует ее, она его, и они замирают, на миг задумавшись, обнимая друг друга, шепча вместе легкое, ласковое, одно на двоих невозможное слово «Линарес», и потом смеются, и пьют вино, и забираются глубже под многоугольное одеяло (столько раз перешитое Майей), и опять начинают какое-то хитрое маневрирование; а на мобильном телефоне Кирилла отключен звук, и Кирилл не знает, что ему уже два раза звонил Абзалов.
* * *
Все двадцать (с небольшим) лет своей жизни Кирилл был человеком крайне болезненным; как следствие – домашним; потому – целомудренным. Книжный мальчик с томиками Марка Дворецкого подмышкой, к пряным «зрелым» удовольствиям он начал приобщаться, только переехав в Петербург. Собственно, Майя (рассеянная, веселая Майя) стала его первой женщиной, и тайны ars amandi [1], открытые ею ему, потрясли Кирилла.
Подобно тысячам тысяч других книжных мальчиков во все времена, Кирилл совершенно не мог понять, какие достоинства находила в нем – нелепом и нескладном провинциале – блестящая столичная девушка. Вероятно, именно поэтому он регулярно (и во всех подробностях) вспоминал обстоятельства своей с Майей встречи – словно бы надеясь отыскать в той первосцене ответы на все вопросы. Ретроанализ (раскручивание назад цепочки сделанных ходов) позволял прийти к выводу, что благодарить за нечаянную радость знакомства следует a) сухаря Абзалова и b) отвратительный петербургский климат. Дело было в ноябре, который выдался чрезвычайно промозглым; на кафедре, как обычно, почти не топили, по коридорам и кабинетам гуляли страшные сквозняки. В таких условиях преподаватели спешили разбежаться сразу по окончании лекций, манкируя бумажной работой, и только Иван Галиевич никуда не уходил, педантично отбывал присутственные часы и разбирал содержимое огромных картотек – в результате чего довольно скоро слег с простудой. Заменяя Абзалова, Кирилл вынужден был провести несколько занятий спецкурса по гипермодернизму. Гипермодернизм Кирилла почти не интересовал, но именно на этот спецкурс пришла однажды Майя, собиравшаяся писать диплом о Дьюле Брейере.
Вот тогда и соединились линии, совпали варианты.
(Ничего нового не узнала о Брейере, зато очень многое о Чимахине, – смеялась Майя, лежа в постели. Хвала гипермодернистам, – отвечал в тон Кирилл, – а еще арктическим воздушным массам, режиму строгой экономии топлива и слабому иммунитету Ивана, дай бог ему здоровья, Галиевича!) Эта «гипермодернистская» подкладка встречи немного успокаивала Кирилла; пусть он, тощий, лохматый, чуть косящий глазами, и весной и осенью кутающийся в одну бесформенную кофту, скрывающий застенчивость за излишней горячностью, выглядит рядом с Майей (настоящей красавицей, умеющей очаровывать людей) персонажем почти карикатурным – построения гипермодернистов тоже когда-то выглядели почти карикатурными, но в итоге оказались вполне жизнеспособны.
Впрочем, продолжая сравнение с гипермодернистами, приходилось признать за ними два значительных преимущества – насколько известно, они, отстаивая собственные позиции, никогда не мучились a) ревностью и b) похмельем. Легкий и рассеянный нрав Майи, ее воздушная общительность причиняли Кириллу множество жесточайших мук (хотя он изо всех сил старался удавить в себе ревнивца); хуже того: злые языки называли причиной такой легкости и рассеянности любовь Майи к алкоголю – что, разумеется, было совершенной неправдой, хотя Майя и ценила сухое (и полусладкое) красное (и белое) вино и, вообще говоря, являлась главной наставницей Кирилла и в этих забавах тоже.
Забавах?!
Пить Кирилл не умел; опьянение не доставляло удовольствия, и всего одного бокала цимлянского было достаточно, чтобы голова с утра раскалывалась на части. Но Майя увлекала, Майя манила, и он шел на поводу у желаний подруги – а на следующий день страдал (скрывая эти страдания ото всех). И если бы дело ограничивалось головной болью! Вместе с ней приходили к Кириллу приступы хандры и откровенно мазохистского самокопания, интеллигентских (в плохом смысле слова) мучений и терзаний. Человек совестливый и умеющий анализировать, Кирилл, как выражались его сверстники, «чуял свой гандикап» – понимал привилегированность собственного положения. Множество одноклассников Кирилла давно добывали пропитание тяжелым однообразным трудом; множество однокурсников – вряд ли менее талантливых, но явно менее удачливых – так и не получили шанса всерьез заняться наукой (которую искренне любили). Страна в целом жила бедно и трудно, экономя почти на всем, кое-как сводя концы с концами, избывая наследие Кризиса, выполняя обязательства, взятые на себя в эпоху Переучреждения. И, несмотря на общий оптимизм, владевший гражданами России последние десять лет, лишь немногие могли похвастаться планами, грезами и мечтами; подавляющее большинство населения тратило все силы для простого реагирования на вызовы повседневности.
Впрочем, в это конкретное утро причина горького раскаяния Кирилла оказалась совсем другой. Проснувшись в десятом часу (соседи по комнате, Ян и Толян, давно ушли), он потянулся к телефону и обнаружил два пропущенных вызова и СМС-сообщение от Ивана Галиевича: «Дорогой Кирилл, перезвоните asap. Вас хочет видеть Уляшов».
Ох!
Новость эта была бы ошеломительной и для здоровой головы.
Целую вечность назад, когда только случилась вся история с переездом в Петербург, с инфарктом Уляшова и с появлением (откуда ни возьмись) Абзалова, Кирилл справлялся у нового научрука о возможности встречи с Дмитрием Александровичем. Иван Галиевич отвечал очень неохотно, кивал на запреты лечащих врачей, обещал что-нибудь узнать «немного позже» и – Кирилл был уверен – не сдержал обещания: потому что «не нужно» и «нецелесообразно», и уж коли решено, что работой аспиранта Чимахина руководит профессор Абзалов, а не профессор Уляшов, то и нечего аспиранту Чимахину лезть к профессору Уляшову в обход профессора Абзалова (тем более что таких прытких юных аспирантов много, а Дмитрий Александрович один и еще не выздоровел). С каждым днем подозрение казалось все более справедливым; очевидно, Ивана Галиевича уязвляло стремление Кирилла увидеть Уляшова – и он специально ничего не делал. Осень сменилась зимой, потом пришел март, апрель, угадывался уже впереди конец учебного года, Абзалов твердил те же самые отговорки («врачи пока запрещают»), и Кирилл совсем перестал надеяться (и только сокрушался иногда: ладно уж, не случилось поработать с Уляшовым, но хотя бы разочек пообщаться, хотя бы за руку разочек поздороваться с великим Д. А. У.).
И вот, оказывается, все совсем по-другому.
Кирилл тут же бросается звонить Абзалову: дорогой Иван Галиевич, да, извините, был занят вчера, да, в библиотеке, занимался, телефон без звука, как здоровье Дмитрия Александровича, так рад, очень рад, долго пришлось ждать, спасибо, Иван Галиевич, а когда можно – ах, прямо сегодня? (Каисса!) Да, разумеется, могу, конечно буду, да, адрес записываю, возле «Алехинской», к шести часам вечера, понял, спасибо, спасибо!
Оу, это ощущение открытых линий, распахнутости мира во все невозможные стороны, когда сбывается что-то настолько долгожданное, что уже почти позабытое.
Однако вслед за волной восторга на голову похмельного Кирилла обрушивается и глубочайшее раскаяние. Ему стыдно: он подозревал Ивана Галиевича в мелких подлостях,