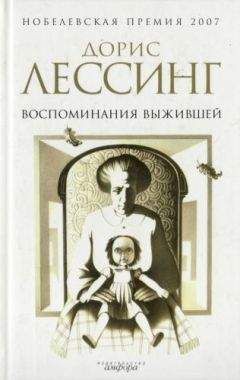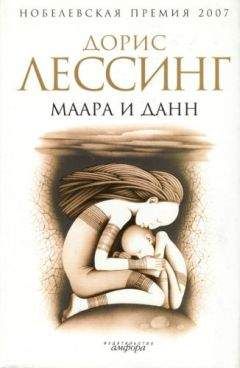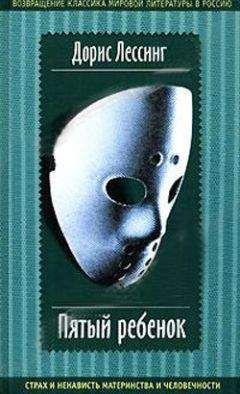А на мостовой между тем вновь нарастают события. И связаны они с Джеральдом, с его не вписывающейся в стратегию выживания потребностью защищать слабых. Там вдруг появились дети около десяти лет от роду, беспризорники. Иные сбежали от родителей, другие с родителями время от времени виделись. Были и сироты. Официально дети либо проживали с родителями по какому-то определенному адресу, либо переходили в ведение опекунских органов. Официально дети даже школу посещали. Но на практике… Иногда, когда родители ломались под давлением реальной жизни, ребятишки прибивались к другим семьям. Детей теперь выбрасывали на улицу так же, как в былые времена надоевших кошек и собак. Родители погибали во вспышках насилия, умирали во время эпидемий, сбегали из города, не думая о детях. А власти не рвались окружить их заботой, наоборот, всячески увиливали от ответственности за беспризорников. Но эти дети все еще оставались частью общества, не стремились порвать с ним, в отличие от других, которых мне тоже вскоре придется описать, ставших врагами общества, нашими врагами.
Джеральд заметил, что с десяток детишек живут буквально на улице, и организовал присмотр за ними. Эмили, естественно, восхищалась своим возлюбленным и защищала его от неизбежных нападок. В то время часто высказывалось мнение, что слабым не место в жизни, но обычно эти замечания относились к старикам. На практике, кстати, так очень часто и случалось. Но Джеральд занял активную позицию. Для начала он не позволил прогнать этих беспризорников. Они спали на свалке, и окружающие вдруг заметили, что оттуда гнусно воняет, — раньше они этого почему-то не чувствовали. Вскоре выяснилось, что еще больше все боялись, что нос в ситуацию сунет городская администрация.
Город изобиловал пустым жильем. Примерно в миле от нас обнаружился большой пустующий дом в приличном состоянии. Там Джеральд и разместил детей. От электросети дом отключили — за электричество уже давно никто не платил, но вода еще подавалась. Стекол в окнах, разумеется, не осталось. Нижние окна заколотили, в верхних этажах затянули полиэтиленовой пленкой.
Джеральд стал этим детям чем-то вроде отца или старшего брата. Он снабжал их пищей, иногда выпрашивая ее у лавочников. Люди иногда проявляли щедрость. Странно, но взаимопомощь и самопожертвование существовали бок о бок с жестокостью и черствостью.
Предпринимались рейды в загородные местности, где можно было что-то купить, выменять или украсть. Весьма кстати за домом оказался большой сад, в котором разбили огород, и беспризорники не только самозабвенно копались в нем, но и бдительно охраняли день и ночь, вооруженные палками и всевозможными стреляющими приспособлениями: рогатками, луками и даже пистолетами.
Тепло, уход, семья…
Эмили почувствовала себя в семье.
Странное то было время. Она как будто жила у меня, «под моей опекой» — шутка, конечно, но не без доли правды. Разумеется, она жила с Хуго, не в силах с ним расстаться. Но каждый вечер, после раннего ужина — я передвинула время ужина, чтобы ей было удобнее, — сообщала, что ей пора и, извинившись с намеком на улыбку, не дожидаясь моей реакции, направлялась к Хуго, чмокала его в макушку и исчезала. Возвращалась она затемно, ближе к утру.
Я опасалась, что Эмили забеременеет, но наши отношения не позволяли обсуждать вопросы такого плана. К тому же, подозреваю, что получила бы от нее в ответ на мои опасения небрежную отговорку типа «Ну и что? Другие рожают, и ничего…» Еще больше я боялась, что она бросит нас с Хуго, уйдет. Главным нашим занятием, моим и желтого зверя, стало ожидание. Ожидание ее возвращения, ожидание расставания с ней, опасение, что за расставанием не последует встреча. Много времени мы с Хуго проводили вместе, но он так и не стал моим другом, моим питомцем. Он ждал Эмили, прислушивался, принюхивался, готовый вскочить и встретить ее у двери. Я узнавала от него о приближении хозяйки, ибо он чуял ее запах или слышал звук ее шагов издалека. Две пары глаз у двери: зеленых и карих. Глаза встречались, девушка обнимала зверя, кормила его, отправлялась в душ. С сангигиеной в общине Джеральда дело обстояло неважно. Эмили переодевалась и отправлялась обратно, в свою стаю.
Этот период также тянулся без взрывов-разрывов. Лето выдалось долгое, погода тоже не баловала разнообразием: жаркая, душная, воздух пыльный, не заглушающий шумов. Эмили, как и другие девицы группы, сменила тяжелые одеяния на более подходящие к обстановке. Она снова согнулась над швейной машиной, переделала старые платья, носила и не перешитые. Мне это казалось странным, мода десятилетней давности триумфально шествовала по улицам, стиралось значение привычной присказки: «Это было, когда мы носили…»
Каждый день, вскоре после полудня, Джеральд с детьми появлялся на мостовой у пустыря, так что Эмили проводила без своей «семьи» лишь часок-другой-третий, забегая домой переодеться, вымыться, поужинать со мной — пожалуй, точнее сказать, с Хуго. Этот визит не требовал от нее насилия над собой, она нуждалась в отдыхе от эмоций, от своего счастья. В новом ее доме буйствовала радость, процветал успех, что-то активно созидалось, в ней там нуждались. Эмили вбегала к нам, как будто спасаясь от веселой весенней бури или от грохота бравурных маршей. Она плюхалась на диван, расслаблялась, улыбалась, переваривала впечатления, радовалась за весь мир. Она постоянно улыбалась, и люди замечали это, заговаривали с ней, прикасались, чтобы почерпнуть из ее бездонных запасов радостной энергии, из реки жизни. И на этом радостном личике постоянно читался недоуменный вопрос: «Но почему я? Почему именно мне?»
Что ж, такого напряжения не выдержит долго ни один организм. Я заметила проявления депрессии, приступы раздраженности, проходившие через час-другой и опять сменявшиеся подъемом.
Вскоре я заметила, что Эмили — не единственная девушка Джеральда. Появились у него и другие помощницы, другие приближенные. Эмили начала сомневаться в прочности своей позиции. Иногда она оставалась дома, вероятнее всего, «чтобы ему показать» или чтобы доказать самой себе, что она сохранила самостоятельность, независимость.
Местные сплетницы утверждали, что Джеральд ни одной юбки не пропустит, что он распущенный бабник. Употреблялись при этом и такие странные по новым временам слова, как «соблазнитель», «аморальный» и тому подобные. Разговоры сотрясали воздух, а ведь между тем уже никто более не удивлялся, что девочки тринадцати-четырнадцати лет становятся женщинами, и это наглядно показывало, что общество наше скатывалось во времена древнего прошлого.
Что чувствовала Эмили? Попробуйте безболезненно принять такие изменения! Она походила на вдову, утратившую райское блаженство. Ей хотелось, чтобы вернулось то время, когда она чувствовала себя солнцем, греющим всех, когда, встретившись с Джеральдом, излучала радость. Но, обнаружив, что она не единственная, может быть, даже не первая, Эмили потеряла блеск, поникла, померкла, теперь ей приходилось понуждать себя к действию. Вопреки самой себе я радовалась случившемуся. Мне казалось, что Эмили все еще должна оставаться под моим крылом, как велел тот загадочный мужчина. И если Джеральд ее предал, то уж теперь, несмотря на все свои страдания, она не понесется за ним сломя голову, останется со мной. А может быть, не прибьется и к следующей стае.