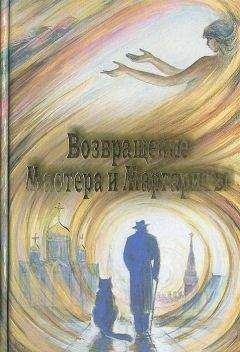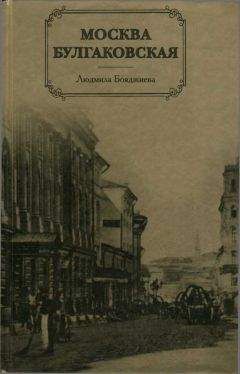– А чего тебе. С такими деньжищами, как ты грабанул мог бы и получше апартамент найти. – Лион поднялся. – Топор давай, пойду свои хоромы вскрывать. Заночую, если потолок не рухнет.
– Брезгуешь у грабителя ночевать? А у меня колбаса полукопченая в подполе. И консервы. Сейчас прямо ужинать начну. Без всякой паузы. Мы, стяжатели, устраиваться умеем… Вот в Испании домишко имею, на Лазурном берегу и здесь вилла. Пса сегодня за двадцать штук купил. Шикую. – Он нахмурился. – Что ж, на твое доверие я рассчитывать не в праве.
– Сказал тоже… – Леон снял куртку, повесил на гвоздь и вернулся за стол. – Похоже, диагноз у нас с тобой, невзирая на коренную несхожесть менталитетов, все же общий – НЕСРЕЛ– неизлечимая несовместимость с окружающей реальностью.
Скромный гость отказался от любезно предложенного хозяином спального места – пружинного матраца, стоящего на чурках. Он устроился возле громоздкого шкафа на тюфяке, набитом соломой. Дом, состоящий из горницы и кухни, объединяла возвышающаяся в центре русская печь. От прежней жизни здесь остался двустворчатый шифоньер с выдернутыми ящиками, продавленный топчан и стол в кухне, сбитый самодельно лет сорок назад. На стенах между бревнами кое–где торчала затыкавшая щели пакля и висели ходики с гирей. Это была первая покупка Максима на новом месте. Кроме того, он серьезно обустроил хозяйство – починил крышу, крыльцо, забор поставил, восстановил и залепил замазкой стекла в маленьких оконцах.
– Я считал себя белоручкой, тонкокожим городским неженкой. – Закинув руки за голову, Максим смотрел в едва различимый во тьме потолок. За прикрытыми цветными шторами окнами шумел дождь и тоскливо подвывал ветер. Скребли о стекло ветки старых яблонь. От этого маленькое тепло в одиноком домике казалось особенно уютным, а человек, посапывающий рядом в темноте боевым другом. Щенок устроился в ногах, свернувшись на колючем шерстяном одеяле тугим клубком, так, что нос прикрывала задняя больная лапа. – А здесь – сплошные трудовые свершения.
– Мало ли что мы про себя думали… – отозвался Лион. – Онечка Ласкер – врожденный мозгляк, отвлеченный от всякой реальности. Не знал, как лопата выглядит. А уж что бы в чужом подъезде ночевать… В страшном сне увидеть не мог. И ничего – справился. – Он помолчал, ожидая вопроса, но Максим расспрашивать не стал.
– У меня такое впечатление, что сидим мы тут с тобой у черта на куличках и пьесу какую–то разыгрываем. Помесь Горького с Кафкой. Ходим все вокруг да около. Объясниться тянет, да вот не знаю, клянусь, не знаю, с чего начать, что бы правильно вышло… Доступно пониманию, – Максим вздохнул.
– Излагай по порядку, разберемся. Начни с того, голубь, что сбежал ты из лаборатории, не озадачив себя необходимостью поставить в известность друга и самого тесного соавтора гениального изобретения.
– Пойми, мне легче спрятаться, чем объяснять свою правду! Такой уж я урод. Одно только знал твердо "враки – мраки", а вот как без них выживать?
Видишь ли, у нас в семье с самого начала все как–то заковыристо шло. Моя бабка – Варвара Николаевна, или как ее все называли, – Варюша, разошлась с мужем еще до войны. Сына Мишеньку вырастила одна. И невесту ему сама нашла – дочку одной приятельницы. Леночка играла на скрипке, была светлая и воздушная, как принцесса из сказки. Но Михаилу Николаевичу, человеку серьезному, сделавшему к тому времени блестящую карьеру в ответственном ведомстве, фея эта понравилась. Родился я в положенный после заключения брака срок.
– В КГБ что ли папаша трудился? – пророкотало в темноте. Лион возился, устраивая теплое лежбище.
– Ну зачем. Михаил Львович Горчаков был архитектором, причем, довольно крупным.
– Архитектором человеческих душ?
– Нет. В прямом смысле. Бассейн "Москва", конечно, помнишь?
– Плавал, плавал. С друзьями. Даже с девушкой. Замечательное было место.
– Но отец–то считал по–другому! Когда мама ушла от него, отцу стукнуло сорок, а мне – шесть. Это уж я позже понял, что мой волевой, непреклонный отец был воплощением компромисса. Причем – мучительного. Бабушка Варюша называла его "сдельщик с совестью". Я думал, профессия такая – "сдельщик". Сделал, значит, построил.
Мама спешно вышла замуж за человека, в которого безумно влюбилась. Думаю, она переживала самую возвышенную пору влюбленности, когда утонула в холодной, быстрой карельской реке. Их байдарка перевернулась. Слышал, как бабушка рассказывала своей подруге, что Гриша совсем поседел от горя и подался в какую–то очень рискованную и дальнюю экспедицию.
А отец ушел жить к другой женщине, оставив меня с бабушкой. Варюша не признала новой семьи сына, да и его держала на расстоянии. И все же отец упорно приходил к нам по субботам, бабушка одевала меня и выводила в коридор, где он, не снимая верхней одежды, молчаливо сидел на табурете под вешалкой. Мы отправлялись гулять. Всегда в одном и том же направлении – к Каменному мосту и знаменитому дому на набережной. Я видел, как строился бассейн "Москва" – отец водил меня прямо на стройплощадку. Тогда я узнал, что на месте бассейна стоял Храм, сооруженный в честь героев войны 1812 года и взорванный большевиками. В десять лет я уже был крупным специалистом по этому сооружению и тому, что находилось окрест. В шестнадцать понял -Храм и Дом – нечто значительно большее, чем архитектурные сооружение, религиозного и жилищно–бытового назначения. Больше даже, чем символ эпохи, порождавшей утопистов–мечтателей, превращавших их в монстров и пожиравших их… Храм и Дом – это моя судьба.
В институте втихаря начал писать нечто вроде семейной саги. Потом много раз бросал и снова возвращался к ней… – Максим прислушался к мерному дыханию Ласика. – Не обижайся, Хуйлион, что я никогда не рассказывал тебе всего этого. Наверно боялся, что ты назовешь меня сопливым гуманитарием. Ведь ты считал меня поверхностным лириком, Ласик?
В ответ прозвучало лишь бурное, но вполне сонное посапывание. Хронический ринит Ласкера не излечили суровые жизненные испытания. Максим продолжил свой рассказ, адресуя его ночи:
– Потом я постарался вытеснить из башки все это наваждение и сосредоточиться только на нашей работе в "ящике". Но от судьбы не уйдешь. Мне позвонила жена отца: "Миша умирает". Примчавшись в Москву в августе восемьдесят седьмого, я застал отца на самом краю – тяжелый инсульт. Язык не слушается, а глаза…Эх, Ласик, видел я такие глаза. Мальчишкой на Ленгорах у того самого отстрелянного старого пса и еще у Фирса. Ты помнишь, старик, нашу удачную серию опытов. Собаки засыпали под воздействием внушения нашего аппарата, просто валились с ног, как от наркоза. И просыпались от мысленного приказа. Фирс был мудрый, но меня принял за старшего и доверился целиком, с собачей жертвенной преданностью. А я… Я приказывал ему ложиться у прибора и включал кнопку. В тот раз пес скулил, ерошил шерсть и никак не хотел подчиниться. Потом лег, положив свою седую голову на вытянутые лапы и долго смотрел на меня. Пес хотел перебороть аппарат или заставить меня отказаться от опыта – он внушал мне, что занимаюсь я плохим делом… Я оказался сильнее, усыпил. Но разбудить его уже не смог.