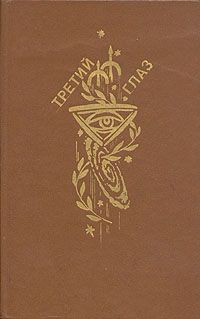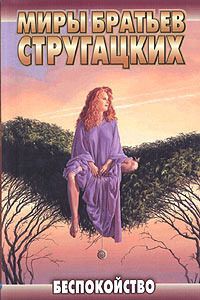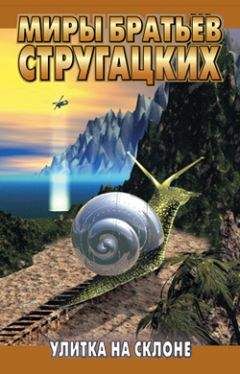— Почему обо всех? Вас это не касается.
— Это многих не касается.
— Да нет. Многих — вряд ли. У вас какой–то обострённый интерес к последствиям, Горбовский. У большинства людей этого нет. Большинство считает, что это не важно. Они даже могут предвидеть последствия, но это не проникает им в кровь, действуют они всё равно исходя не из последствий, а из каких–то совсем других соображений.
— Это уже другое дело, — сказал Леонид Андреевич. — Тут я с вами согласен. Я не согласен только, что эти другие соображения — всегда собственное удовольствие.
— Удовольствие — понятие широкое…
— А, — прервал Леонид Андреевич. — Тогда я с вами согласен полностью.
— Наконец–то, — сказал Турнен язвительно. — А я–то думал, что мне, бедному, делать, если вы не согласитесь. Я уже собирался вас прямо спрашивать: зачем вы, собственно, здесь сидите, Горбовский?
— Но ведь вы не спрашиваете?
— В общем — нет, потому что я и так знаю.
Леонид Андреевич с восхищением посмотрел на него.
— Правда? — сказал он. — А я–то думал, что законспирировался удачно.
— А зачем вы, собственно, законспирировались?
— Так смеяться же будут, Тойво. И вовсе не тем смехом, какой я привык слышать рядом с собой.
— Привыкнете, — снова пообещал Турнен. — Вот спасёте человечество два–три раза — и привыкнете… Чудак вы всё–таки. Человечеству совсем не нужно, чтобы его спасали.
Леонид Андреевич натянул шлёпанцы, подумал и сказал:
— В чём–то вы, конечно, правы. Это мне нужно, чтобы человечество было в безопасности. Я, наверное, самый большой эгоист в мире. Как вы думаете, Тойво?
— Несомненно, — сказал Турнен. — Потому что вы хотите, чтобы всему человечеству было хорошо только для того, чтобы вам было хорошо.
— Но, Тойво! — вскричал Леонид Андреевич и даже слегка ударил себя кулаком в грудь. — Разве вы не видите, что они все стали как дети? Разве вам не хочется возвести ограду вдоль пропасти, возле которой они играют? Вот здесь, например. — Он ткнул пальцем вниз. — Вот вы давеча хватались за сердце, когда я сидел на краю, вам было нехорошо, а я вижу, как двадцать миллиардов сидят, спустив ноги в пропасть, толкаются, острят и швыряют камешки, и каждый норовит швырнуть потяжелее, а в пропасти туман, и неизвестно, кого они разбудят там, в тумане, а им всем на это наплевать, они испытывают приятство оттого, что у них напрягается мускулюс глютеус, а я их всех люблю и не могу…
— Чего вы, собственно, боитесь? — сказал Турнен раздражённо. — Человечество всё равно не способно поставить перед собой задачи, которые оно не может разрешить.
Леонид Андреевич с любопытством посмотрел на него.
— Вы серьёзно так думаете? — сказал он. — Напрасно. Вот оттуда, — он опять ткнул пальцем вниз, — может выйти братец по разуму и сказать: «Люди, помогите нам уничтожить лес». И что мы ему ответим?
— Мы ему ответим: «С удовольствием». И уничтожим. Это мы — в два счёта.
— Нет, — возразил Леонид Андреевич. — Потому что едва мы приступили к делу, как выяснилось, что лес — тоже братец по разуму, только двоюродный. Братец — гуманоид, а лес — негуманоид. Ну?
— Представить можно всё что угодно, — сказал Турнен.
— В том–то и дело, — сказал Горбовский. — Потому–то я здесь и сижу. Вы спрашиваете, чего я боюсь. Я не боюсь задач, которые ставит перед собой человечество, я боюсь задач, которые может поставить перед нами кто–нибудь другой. Это только так говорится, что человек всемогущ, потому что, видите ли, у него разум. Человек — нежнейшее, трепетнейшее существо, его так легко обидеть, разочаровать, морально убить. У него же не только разум. У него так называемая душа. И то, что хорошо и легко для разума, то может оказаться роковым для души. А я не хочу, чтобы всё человечество — за исключением некоторых сущеглупых — краснело бы и мучилось угрызениями совести или страдало бы от своей неполноценности и от сознания своей беспомощности, когда перед ним встанут задачи, которые оно даже и не ставило. Я уже всё это пережил в фантазии и никому не пожелаю. А вот теперь сижу и жду.
— Очень трогательно, — сказал Турнен. — И совершенно бессмысленно.
— Это потому, что я пытался воздействовать на вас эмоционально, — грустно сказал Леонид Андреевич. — Попробую убедить вас логикой. Понимаете, Тойво, возможность неразрешимых задач можно предсказать априорно. Наука, как известно, безразлична к морали. Но только до тех пор, пока её объектом не становится разум. Достаточно вспомнить проблематику евгеники и разумных машин… Я знаю, вы скажете, что это наше внутреннее дело. Тогда возьмём тот же разумный лес. Пока он сам по себе, он может быть объектом спокойного, осторожного изучения. Но если он воюет с другими разумными существами, вопрос из научного становится для нас моральным. Мы должны решать, на чьей стороне быть, а решить мы этого не можем, потому что наука моральные проблемы не решает, а мораль — сама по себе, внутри себя — не имеет логики, она нам задана до нас, как мода на брюки, и не отвечает на вопрос: почему так, а не иначе. Я достаточно ясно выражаюсь?
— Слушайте, Горбовский, — сказал Турнен. — Что вы прицепились к разумному лесу? Вы что, действительно считаете этот лес разумным?
Леонид Андреевич приблизился к краю и заглянул в пропасть.
— Нет, — сказал он. — Вряд ли… Но есть в нём что–то нездоровое с точки зрения нашей морали. Он мне не нравится. Мне в нём всё не нравится. Как он пахнет, как он выглядит, какой он скользкий, какой он непостоянный. Какой он лживый, и как он притворяется… Нет, скверный это лес, Тойво. Он ещё заговорит. Я знаю: он ещё заговорит.
— Пойдёмте, я вас исследую, — сказал Тойво. — На прощание.
— Нет, — сказал Леонид Андреевич. — Пойдёмте лучше ужинать. Попросим открыть нам бутылку вина…
— Не дадут, — сказал Тойво с сомнением.
— Я попрошу Поля, — сказал Леонид Андреевич. — Кажется, я пока ещё имею на него какое–то влияние.
Он нагнулся, собрал в горсть оставшиеся камешки и швырнул их вниз. Подальше. В туман. В лес, который ещё заговорит.
Тойво, заложив руки за спину, уже неторопливо поднимался по лестнице.
1965 г .