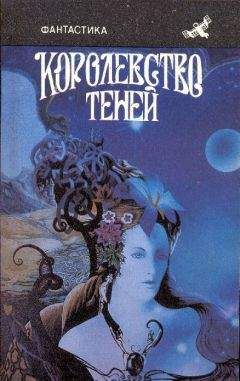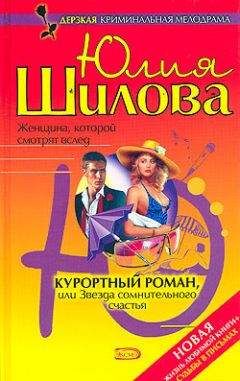Кузьмичев обошел вагончик, заглянул под него. Козы там, конечно, не оказалось. Но дело в том, что ей просто некуда было деться. Ровное поле лежало вокруг, до ближайшего дерева далеко, да и не спрятаться козе за тоненькой березкой.
Коза и впрямь никуда не делась. Кузьмичев едва не наступил на нее. Она окаменело стояла под одуванчиком…
Кузьмичев присел на корточки и осторожно поставил козу на ладонь. Если бы животные могли терять сознание, она, наверное, в этот момент лишилась бы чувств, но Кузьмичеву показалось, что он держит на ладони не живую козу, непонятным образом уменьшившуюся в размерах, а неподвижную игрушку, сделанную, до последней шерстинки, с удивительным искусством и точностью. Кузьмичев вернул козу на землю, вытер ладонь о траву, поднялся, отошел и, пристально глядя на “игрушку”, поднес дудочку к губам.
Он подождал, пока мигом подросшая коза не очухалась и не умчалась прочь, истерически мемекая и подпрыгивая высоко над травой, и вернулся в свой вагончик. Лег на матрац, набитый сеном, уткнулся в колючую подушку, пряно и томительно пахнущую полынью, и крепко зажмурился…
* * *
Ольга, жена Кузьмичева, маленькая, тоненькая брюнетка, работала в роддоме. Дважды в неделю она дежурила: во вторник и пятницу. Ольга любила устойчивость и порядок во всем, даже в графике дежурств. Иногда Кузьмичев удивлялся, как она столько лет терпит рядом такого безалаберного мужчину, как он.
Впрочем, называя себя безалаберным, он слегка кокетничал сам с собой. Он был как раз очень аккуратен, даже питал слабость к уборке квартиры. Для Ольги было очень удобно, что муж не терпит запыленной мебели и помутневшего стекла, мусора на полу и тусклых от пыли ковров. Но с некоторых пор Кузьмичева больше занимало другое…
Во вторник и пятницу он приказывал детям пораньше ложиться спать, а себе стелил в кабинете, тщательно заперев дверь туда.
Под книжными полками стояла низкая тахта. Кузьмичев включал зеленоватого стекла бра и, задыхаясь, все время ощущая толщину своих пальцев, извлекал из внутреннего кармана пиджака маленькую куколку — словно бы изящнейшую фарфоровую статуэтку.
Трудно было оторваться от созерцания ее точеных черт, и Кузьмичев, смиряя себя, радостно ласкал взором лежащую на его ладони фигурку. Потом осторожно опускал ее на диван и, отойдя, подносил к губам свою находку — дудочку. Он твердо знал, что эта белая дудочка предназначена не для игры, что она молчит, но почему-то в то время, пока фигурка на диване росла, увеличивалась, превращаясь в Светлану, Кузьмичеву казалось, что он слышит неясную мелодию, от которой сердце начинало стучать сильнее.
Светлана уволилась с работы, сказала подруге, что уезжает. Теперь она всегда была рядом с Кузьмичевым. И в минуты тревог, волнений, больших радостей или неприятностей он спешил слегка коснуться рукой внутреннего кармана пиджака, ощутить сквозь ткань неясное тепло любимой. Он не мог раньше и представить себе такой глубины самопожертвования, такой безоглядной любви. Как можно до такой степени раствориться в своем чувстве, чтобы пожертвовать для любимого всем, даже жизнью — ибо разве можно назвать жизнью то состояние, в котором находилась Светлана? Только на несколько часов она обретала свой нормальный облик, могла двигаться, говорить, целовать… А в остальное время была заключена в крохотной изящной оболочке. Для нее в буквальном смысле слова исчез весь остальной мир, кроме Кузьмичева. За счастье не расставаться с ним ни на миг она поступилась всем. Иногда он спрашивал себя, как, чем мог заслужить подобное, но не мог ответить. Испытывая к Светлане огромную благодарность, он порою начинал бояться этого чувства.
Как-то под утро они крепко уснули и не слышали будильника, а сын Кузьмичева неожиданно стал ломиться в его кабинет, требуя ручку, забытую здесь вчера. Заглушенно хохоча — какой-то нервный смех вдруг привязался, — Кузьмичев и Светлана торопливо одевались и прощались, то и дело целуясь. Наконец, когда, казалось, защелка с двери вот-вот соскочит, Кузьмичев схватился за дудочку. Он едва успел спрятать крошечную фигурку в карман и открыл дверь. Сын ринулся к столу, схватил свою ручку, но не уходил — шарил вокруг пронзительным оком, а потом вдруг спросил:
— Это чей чулок?
Кузьмичев повернул голову и обмер. О Господи! Светланин чулок! Лежит на смятом пледе — тоненький, скомканный, похожий на переливчатую змеиную кожу.
Кузьмичев сказал очень спокойно:
— Чей же это может быть чулок, как не мамин?
И как ни в чем не бывало начал поправлять плед. Сын постоял, как-то странно вращая глазами, и вышел.
Мальчишка был любопытный и, кажется, проницательный. Иногда в его широких зеленоватых глазах Кузьмичеву чудилось почти товарищеское понимание, но чаще взгляд был неподвижно-пристальным, как у совы, мудрой совы. Нет, похоже было, что он через микроскоп разглядывает какое-то неизвестное науке вещество. Вот именно — не существо даже, а вещество! И все меньше и меньше тайн остается для него.
Не очень-то приятно сознавать себя чем-то вроде инфузории-туфельки под объективом, и Кузьмичев, внешне оставаясь с сыном спокойным и приветливым, в душе предпочитал дочь. Это была лгунья, кокетка и лакомка, но пока без всяких загадок.
Кузьмичев очень любил своих детей. Никогда, ни ради кого не бросил бы он их. В них он видел оправдание многим бессмысленностям и нелепостям своей жизни. Нет, дети — это все. Никогда он от них не уйдет. А значит, и от Ольги. Хотя здесь время любви прошло так давно, что иногда казалось, что оно не наступало вовсе.
Итак, сын вышел. Кузьмичев с запоздалым испугом посмотрел ему вслед и зачем-то принялся разглядывать чулок. Вдруг возникло нелепое желание надеть этот чулок на маленькую ножку куколки. Кузьмичев представил себе эту картину — и им неожиданно овладел приступ неудержимого хохота. Он повалился на тахту, лицом в подушку, чтобы заглушить этот неприличный, кудахчущий, дурацкий смех. Он метался по тахте, пока не спохватился, что у него в кармане куколка.
В следующую их ночь он рассказал Светлане об этом эпизоде. Она буркнула:
— Я знаю. — и отвернулась.
Задумывался ли Кузьмичев над тем. что куколка Светлана слышит и понимает все происходящее в большом мире?..
Однажды Кузьмичев начал рассказывать ей, как промочил в дождь ноги. Светлана взглянула на него странно, незнакомо. Что-то было в ее взоре такое, чему Кузьмичев никак не мог найти применения. Потом, уже много времени спустя, когда какой-то пижон на улице окинул таким же взглядом его новую куртку, Кузьмичев догадался, что это была зависть. Но чему завидовала Светлана? Что ноги промочил? Удовольствие сомнительное. Но чему тогда?