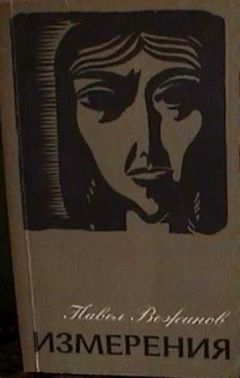Торопливо выйдешь на веранду. Глубокая провинциальная тишина. Сквозь ветки умирающего вяза видна облысевшая горная гряда. Тишина, тишина, лишь где-то еле слышно трепещут крыльями птицы. Медленно спускаешься по деревянной лестнице, под ногами мягко пружинят гнилые ступеньки. Внизу, под лестницей, сбитый из досок закут, в котором когда-то складывали наколотые на зиму дрова. От него начинался туннель — подземный ход, выходивший в соседнее ущелье. Дед Лулчо рассказывал, что пробили его по совету самого Левского на случай, если турки вдруг выследят какое-либо собрание революционного комитета. Тот же дед Лулчо его и выкопал, можно сказать, голыми руками, за одно лето. И знали об этом только они двое с дедом Манолом, бабушка даже не подозревала о его существовании.
Сейчас двор утопает в буйном, словно кустарник, бурьяне. Дорожка еле заметна. Очень высокая каменная ограда придает всему дому вид крепости. Ни в одном селе не видел я больше таких высоких оград. Целый век прошел, а они крепки по-прежнему. Только скрепляющий камни известковый раствор кое-где выкрошился, тронутый временем. В тот страшный день, когда за городом гремели выстрелы, бабушка, бледная, безмолвная, стояла у дверей и ждала. От них к тяжелым, обитым железом воротам вела дорожка, вымощенная мелкой речной галькой. Все было пусто, нигде ни души.
В это время дед Манол сражался на Бырдото. Из истории известно, чем закончился этот бой. Погода стояла холодная, хмурая, в горах Эледжика даже шел снег, хотя по-теперешнему была середина мая. Потом полил дождь, вымочил порох в жалких самодельных патронах повстанцев. Ружья смолкли. Хафиз-паша дорого заплатил за победу, но так или иначе его регулярные части, возглавляемые ордой башибузуков, ворвались в опустевший городок.
Бабушка по-прежнему ждала. Она сразу поняла, что мертвая тишина вещает не победу, а гибель. Разгромленные повстанцы рассыпались по горам, каждый искал спасения в одиночку. Но многие все-таки пробрались в обреченный город. Это горстка храбрецов, о которых рассказывает в своих «Записках» Захарий Стоянов. Известны имена Рада Клисаря, Стояна Гыкова, Тодора Гайдука из Радилова, которые своими допотопными ружьями остановили целую армию. Но имена моего деда и его маленькой храброй жены остались неизвестными, как и многие-многие другие. Все они предпочли погибнуть в последнем бою, но не жить в отчаянье и позоре поражения. Хотя это уже принадлежит истории и не имеет отношения к моему рассказу.
Когда дед, задыхаясь, ворвался во двор, бабушка все так же стояла в дверях. Он был в повстанческой форме, в тяжелой суконной накидке на плечах, но без шапки, которую потерял в бою. В руках у него был винчестер и к нему два патронташа. Как известно, винчестер — одно из лучших ружей того времени, вооружены им были лишь немногие. Говорят, дед за немалые деньги купил его у Нури-бея, одного из самых богатых пирдопских черкесов, с которым его связывало какое-то старое приятельство. Дед был чрезвычайно возбужден, даже губы у него побелели, может быть, от усталости. Но, заговорив, он сразу пришел в себя, лицо его смягчилось. Во дворе было тихо, спокойно — укромное зеленое гнездо за крепкими стенами. Стрельбы в городе пока не было слышно. Только что расцветшие гиацинты улыбались, орошенные дождем. Даже тучи поредели, в просветах засияло чистое небо. Казалось, что все вокруг рождено для вечного мира. Дед взглянул на жену своими ясными голубыми глазами и еле слышно вздохнул.
— Ну, Петра, пришел наш последний час! — сказал он спокойно. — По крайней мере умрем по-человечески!
— А я? — тихо спросила она.
— Что ты?
— Нету ведь у меня оружия.
— Об этом я позаботился! — ответил дед.
Сунул руку под накидку и вытащил двуствольный пистолет.
— Здесь две пули, — сказал он. — Если поганцы убьют меня, хорошо. А если ранят, ты убьешь и меня и себя.
И протянул ей пистолет так, как протягивают дорогой подарок. Она поцеловала ему руку и опустила глаза. Бабушка никогда не описывала мне своих тогдашних переживаний, ни в одном из ее многочисленных рассказов не было ни слова о чувствах. Когда-то люди стыдились своих чувств, вернее, стеснялись их не меньше, чем наготы. Это благодаря ей я понял — не может быть глубоким и сильным то, что показывается без всякого смущения.
А тогда она сказала только:
— Хорошо, Манол.
Вскоре в городе загремели первые выстрелы. И началось то, что потом навсегда врежется в память людей. Не все из тех, кто остался в Панагюриште, сражались до конца. Но все прощались — с близкими, с горькими своими надеждами. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, в ушах у меня звучат тихие, умоляющие голоса, предсмертные стоны. Последние прощальные слова, может быть, последние проклятия. Женщины падали на колени перед пропахшими воском иконами, и тут настигал их роковой удар ятагана, слышался хруст костей. Может быть, кто-то из стариков молитвенно простирал руки, надеясь на пощаду. Кто-то плакал. Но настоящие мужчины бились до последнего патрона. Некоторым даже удалось спастись, но ни один из них потом не был счастлив. Горечь поражения оказалась сильней подаренной жизни.
Дед Манол сбросил накидку и направился к воротам, стройный, с легким ружьем в руках. Бабушка слышала, как глухо и грозно загремели засовы. Затем дед прикладом выбил камни, прикрывавшие заранее проделанные в ограде бойницы. Их было три: две выходили на площадь, одна — на боковую улочку. Потом он тщательно зарядил винчестер.
Стрельба в городе усиливалась. Дед стоял у бойницы и ждал. Наконец и на нашей улице появились турки. Вернее, это были не турки, а черкесы, о чем легко можно было догадаться издалека по прямым блестящим шашкам, не похожим на кривые турецкие ятаганы. Было их довольно много, человек двадцать. Впереди шагал крупный мужчина в распахнутой черкеске и с громадным животом, который он время от времени приподнимал руками, словно боялся уронить. Это и был знаменитый Нури-бей, продавший деду винчестер. Верно, спешил заполучить его обратно, пока до Хафиз-паши не дошло, что он продал оружие неверному.
Вдруг черкесы остановились. Нури-бей вытер рукавом взмокший лоб.
— Сдавайся, Манол-эфенди! — крикнул он не слишком громко. — Ничего плохого мы тебе не сделаем.
Видно, заметил торчащее из бойницы ружье За это время дед успел прицелиться — в самое брюхо. Прогремел выстрел. Нури-бей покачнулся и упал лицом в грязь. Остальные, не залегая, открыли беспорядочную стрельбу.
Похоже, случайно пуля сразу же попала в деда. Хлынула из шеи алая мужская кровь. Сейчас я думаю, что вряд ли он умер сразу, слишком уж громко хрипела его пробитая гортань. Но бабушка так и не узнала, когда именно это случилось. Почти не сознавая, что делает, она схватила ружье и встала к бойнице. Прицелилась еще более твердой и жесткой рукой, чем дед, и выстрелила. Один из головорезов повалился ничком и замер. Только тут черкесы залегли, кто где сумел. Они все еще не знали, что сражаются с женщиной. Мне тоже так и не довелось узнать, когда моя бабушка научилась владеть оружием. Об этом она хранила упорное молчание.