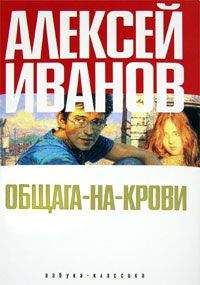Ознакомительная версия.
Аркадий был человеком отходчивым, поэтому, выкричавшись и помахав еще немного палкой, он почувствовал себя неловко. Как-то сразу застеснялся своего затрапезного вида и скрылся в подъезде. На майку или даже рубашку – он приглядывался к байковой в клеточку – у него бы денег хватило, но привычка считать каждую копейку сделала его, человека бедного, еще и скуповатым, – да и не перед кем было красоваться. Он вернулся домой, достал пятидесятисантиметровую линейку и стал измерять размеры оконной рамки, которую решил застеклить самостоятельно. Минут через двадцать в дверь постучали. Аркадий пошел было открывать, оставив палку у кровати, от того сильнее прихрамывая, но вспомнил, что дверь на ключ не закрыл, и хрипло прокричал:
– Кого там принесло? Не заперто.
На пороге образовался мальчик. Тонкая фигурка в плотно облегающей майке с вертикальными желто-голубыми полосами, золотистые, слегка вьющиеся волосы до плеч, тонкие черты лица, прозрачная чистая кожа, глаза ясной синевы, а в них – раскаяние и желание все исправить.
– Это я разбил окно, случайно. Произошла ошибка в расчетах, и я пришел к вам попросить прощения.
Так он начал и протянул руку с раскрытой ладонью, на которой лежала смятая трехрублевая бумажка.
– Это на стекло. Это все, что у меня есть, но если этого не хватит, скажите, и я постараюсь достать еще.
Аркадий, несмотря на поврежденную ногу, человеком был не слабым, в гневе производил весьма устрашающий вид – и не без оснований. Его палка с гнутой ручкой прошлась по спинам немалого количества местных бродяг. И вдруг этот мальчик, эти его три рубля, его решимость прийти к незнакомому, недружелюбному и даже опасному человеку… Все это очень удивило Нестеренко. Но более всего поразило сходство мальчишки с тем мальчиком из телевизора…
В его однокомнатном убежище среди неровных стен, оклеенных дешевыми обоями, было две приличных вещи: цветной телевизор и настенные часы с боем. Часы – военный трофей, от которого он не смог отказаться и который ему в госпиталь принесли фронтовые друзья, на память от уцелевшей в последних боях обслуги их гаубичной батареи.
А телевизор… Тут он не поскупился. Телевизор был его единственным безотказным собеседником, тем, перед кем можно было сбросить привычную маску, панцирь, броню повседневного противостояния с окружавшим его миром. Это техническое устройство – единственное существо, которое видело Аркадия Нестеренко улыбающимся, хохочущим, плачущим, живым человеком. Новенький «Рубин Ц-266Д» стоял на почетном месте в отведенном под спальню углу. Те, кто знал Нестеренко, немало были бы удивлены его осведомленностью в программах телепередач и не поверили бы в то, что особенно он любит смотреть фильмы про детей. И вот на пороге стоит мальчик, будто материализовавшийся из только что просмотренного фильма «Волшебный голос Джельсомино». Так его Аркадий и воспринял, так и называл впоследствии – Джельсомино. И в этот первый момент, еще не решив отказаться от выражения свирепости на лице, он не совладал с густыми, не поседевшими, в отличии от почти полностью побелевших волос на голове, бровями. Брови Аркадия внимательному наблюдателю, физиогномисту, часто подсказывали: перед ним вовсе не мрачный сухарь, а человек с более сложным устройством души, способный к чувствам, принятым называться тонкими. И двенадцатилетний мальчик сумел оценить это движение черных полосок над строгим взглядом темных глаз, виновато изогнувшихся, сделавших почти смешными черты нахмуренного лица пожилого мужчины.
Так они познакомились. Нестеренко взял трехрублевую бумажку, развернулся с ней, неловко ища место куда бы ее положить, словно она жгла ему руку, и, так и не решив куда, повернулся к Илье и неожиданно для себя севшим голосом произнес:
– Может, чаю?
Надо сказать, что чай в его доме смело можно было назвать третьей приличной вещью: только отборный, индийский, крепко заваренный. Поэтому и предложение отведать хорошего чая отчасти было желанием показать этому рыжеволосому мальчику, что Аркадий Нестеренко – человек, заслуживающий внимания.
– Чай? С удовольствием!
Илюшка вовсе не ожидал такого поворота и с ходу согласился, с облегчением осознавая, что опасность встречи этого дяденьки с родителями миновала.
Аркадий, поражаясь самому себе, пыхтел у кухонного столика, заливая кипятком заварку, приготовленную еще утром и, поставив перед Ильей чашку, наполненную до краев темным ароматным чаем, полез в стенной шкафчик за баранками.
Баранки были единственным, что Аркадий позволял себе приносить из пекарни домой. Он работал хлебопеком, простаивая долгие часы у раскаленной печи с короткими перерывами на обед и десятиминутными перекурами. Обед состоял из тех же баранок или свежего хлеба с молоком. Запах ванили (ванилина при замесе теста для мягких вытянутых в эллипс баранок не жалели), который многие после нескольких месяцев такой кормежки на переносили, его не волновал. Он съедал порцию сдобы, запивая ее молоком, и выходил на крыльцо выкурить свою папиросу. Он тянул в себя горький дым едкого табака и повторял порой сквозь зубы свою мантру безысходности: «Дотерплю». Его не беспокоили, знали: разговор не поддержит. Начальство Нестеренко ценило, мало кто был способен долго удержаться на этой работе у адского огня. Те, кто действительно работал многие годы, занимались снабжением, занимались приготовлением теста и упаковкой. Этот народец не прочь был поживиться, чем бог послал, в этом небогатом выборе хлебобулочных ингредиентов. Тащили помаленьку масло, дрожжи, сахар, муку, масло. Иногда возникали конфликты, особенно накануне праздников: воровали все одновременно и, сделав акцент на каком-нибудь одном продукте – на масле или муке, ставили на грань срыва выпуск плановой продукции. Но в конце концов все заканчивалось миром. Заведующая, шестидесятилетняя Валентина Степашина, несмотря на свою субтильность, удивительную при обилии продуктов, употребление которых ощутимо проявилось на фигурах всей остальной женской части коллектива, умела поставить команду на место. Нестеренко выступал фоном ее поддержки. Никогда не вмешиваясь в эту мышиную возню, он служил авторитетом, человеком нейтральным к этим манипуляциям, не осуждавшим, но и не принимавшим в них участия.
А баранки, небольшой кулек, он брал домой: их разрешалось употреблять на обед, и он считал, что некоторое их количество он заслужил сверх того, что съедал с поллитровой бутылкой молока.
Аркадий смотрел, с каким аппетитом ест эти баранки Илюшка, прихлебывая чай, в который Нестеренко положил четыри куска сахара. Ему было вкусно. Аркадий, наблюдая за мальчиком, подумал о том, что он сам уже давно не испытывал удовольствия от еды, механически пережевывая то, что он про себя называл не едой, а кормом. Ел только из необходимости поддержать физическую жизнь – дотерпеть.
– А знаешь, как мы на фронте… – он начал эту фразу, оторопев от неожиданности произнесенного. За все послевоенные годы он по пальцам мог пересчитать случаи, когда он с кем-нибудь в разговоре упоминал войну, ту свою жизнь, не похожую хоть сколько-нибудь на эту, пропахшую ванилью, пустую, никчемную, серую. Он прокашлялся, схватился за смятую пачку с несколькими оставшимися беломоринами, но закуривать не стал, пересилил себя и повторил: – А знаешь, как мы на фронте хлеб пекли? – и рассказал про то, как дырявили штыками мешки с мукой, не надеясь, что подвода с этими мешками достанется их батарее, а еще про то, как вкусно получался кулеш с просяной кашей и зайчатиной, добытой в попавшемся по дороге лесочке, и затормозил он свой рассказ так, словно остановил на всем ходу полуторку с прицепленной к ней пушкой у крутого речного обрыва, услышав недоуменное:
– А вы что, воевали?
Нестеренко покраснел, тяжело поднялся, достал-таки папиросу и отошел в дальний угол к шкафу, там закурил и, разогнав широкой ладонью дым, ответил:
– Всю войну прошел, – и, глядя в распахнутые глаза мальчика, почему-то добавил, словно отчитываясь перед начальством: – И награды имеются.
– А можно посмотреть?
Илья аккуратно положил на тарелку половинку недоеденной баранки и вытер салфеткой руки. Аркадий открыл шкаф и достал с верхней полки большую плоскую коробку, обтянутую коричневым дерматином. Он отнес ее к столу и, подцепив ногтем латунную защелку, открыл. Коробка внутри была выложена голубым бархатом, и на этом голубом поле, тускло поблескивая, рядами лежали ордена и медали. Аркадий смотрел на раскрывшего в изумлении рот Джельсомино, и его грудь заполнила сладкая патока восторга. Он чувствовал, что еще мгновение – и глаза наполнятся слезой. Этого Нестеренко допустить не мог и, крепко затянувшись уже подошедшей к мундштуку раскаленной табачной гарью, изо всех сил постаравшись успокоить голос, произнес:
– Вот, набралось за четыре года.
Ознакомительная версия.