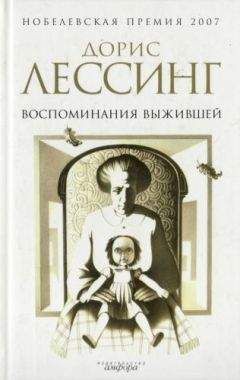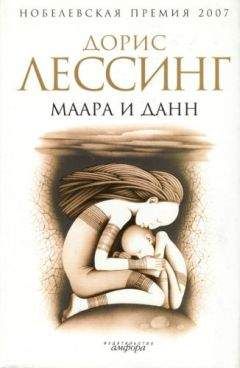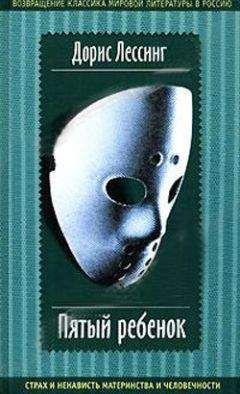Белизна. Белизна постельных простыней и пододеяльников, пеленок, которыми стиснут, обездвижен новорожденный. Сосунок глазеет в потолок. Потолок тоже белый. Ребенок силится повернуть голову, в поле зрения попадает белая стена с одной стороны, белый шкаф с другой. Белые стены. Белая эмаль. Белая мебель.
Ребенок в комнате не один. Рядом тяжко топает какое-то громоздкое существо, от каждого шага колыбелька вздрагивает. Сталь бренчит о камень. Младенец пытается поднять голову, но все равно ничего не видит. Голова не отрывается от влажного, мягкого жара подушки. Такую беспомощность она ощутит снова лишь на смертном одре, когда сила оставит ее мышцы, не останется ничего, кроме угасающего за темными зрачками сознания. Громадный топотун приближается к кроватке, звякают металлические прутья, фигура склоняется над малышкой. Грубые руки поднимают ее. Уже. Испачкалась. Снова менять. Испачкалась. Неодобрение, осуждение. Ее перепеленывают, крутят, переворачивают, как будто потрошат рыбу или курицу.
Испачкалась. Холодная неприязнь, отдающая раздражением. Слово, блистающее белизной, снежными кристаллами, межзвездным холодом. Ветер вздымает снег, дергает марионеток, болтающихся на веревочках… «Заледенели плотины, снег валил и валил бесконечно, и дома заполнились снегом, вся вода превратилась в лед, и воздух морозил горло». В родительской спальне шторы отдернуты, волны белого крапчатого муслина. За шторами снег, белое на белом, валит и валит, неба не видно. Две большие кровати, высокие, чуть ли не до самого прогнувшегося к ним потолка. Кровати заняты: в одной мать, в другой отец. В комнате что-то новое. Колыбелька. Белая, леденящего белого цвета. Тоже высокая. Не такая, как башни больших кроватей, но все же не достать. Вплывает большая белая фигура с большой тугой грудью, вынимает из колыбели сверток. Под одобрительные улыбки родителей сверток предъявляют ей для освидетельствования, тычут прямо в лицо. От свертка резко пахнет, запах опасный, острый, как ножницы, как неловкие руки. Эмили охватило отчаяние, чувство одиночества, не испытанное никем — и испытанное каждым — в этом мире. Боль сковывает ее, девочка не может пошевелиться, она завороженно уставилась на белый сверток. Сделав над собой усилие, перевела взгляд на няньку-кормилицу, затем на мать и отца, улыбающихся в своих постелях.
Вниз, к полу, уползти от этих больших людей в высоких кроватях, в большой бело-красной душной комнате с красным ковром, красными языками пламени, толкущимися в камине. Все здесь слишком большое, слишком высокое, всего слишком много. Ей хочется уползти, спрятаться. Но никуда не деться, а в нос снова и снова тычут пахучий сверток.
— Ну-ка, Эмили, глянь на свою лялечку, — доносится женский голос из большой кровати.
Вранье! Какая еще «ее лялечка»? Смеяться или ругаться? Визжать, как под жестокими пальцами «щекочущего» ее отца, которые потом видятся ей в ночных кошмарах? Она недоверчиво оглядывается, смотрит на мать, на отца, на няньку — на предателей. Не ее это лялечка, и они знают, зачем же врут… Но снова и снова ей талдычут: «Твоя лялечка, твоя, твоя… Ты должна любить братика…»
Сверток Эмили суют так, чтобы создалось впечатление, будто она его держит. Еще один обман. Держит на самом деле нянька. Зато теперь они изошли на умиление, растаяли, растеклись своими улыбками по комнате. Столько лжи, столько любви… не одолеть. И она схватилась за сверток и полюбила его страстной любовью защитницы, любовью с заковыкой, сохраняющей ледяное ядро измены…
В комнате с красными бархатными шторами маленькая девочка лет четырех в платьице с цветочным узором стоит, склонившись над упитанным братиком, восседающем на брошенном на ковер куске линолеума.
— Нет, нет, не так. Вот как! — командует она. Малыш глядит на свою умную наставницу с восхищением, пытается пристроить кубик на верхушку другого, но у него дело не ладится.
— Вот же, смотри! — Эмили нетерпеливо бухается рядом на колени и складывает кубики ловко и умело. Она увлечена этим занятием, полностью поглощена им. Сделать как следует да еще и показать, как это делается — вот ее цель. Малыш наблюдает внимательно, все понимает, но повторить подвиг, сложить уголок к уголку, ребро к ребру, грань к грани не в состоянии; кубики рассыпаются.
— Да нет же, нет! — Ее голос разносится по дому, вылетает в сад. — Вот как надо! Вот как!
После моего визита в общежитие коммуны мы с Эмили, кажется, стали лучше понимать друг друга. Я могла понять, например, почему у нее под утро распухшие глаза. Второй день подряд она не выказывает желания отправиться в дом Джеральда. К полудню она еще не оделась, ходит в том, в чем спала, в бывшем хлопчатобумажном платье. Точнее, не ходит, а сидит, обхватив Хуго обеими руками.
— Непонятно, что я там вообще делаю, — говорит она, надеясь, что я стану возражать.
— Я бы сказала, что ты очень многое там делаешь.
Эмили пристально смотрит на меня, улыбается. Улыбка горькая, безнадежная.
— Да, конечно. Но с этим справится и любой другой.
Столь взрослой, если так можно выразиться, мысли я от нее не ожидала. С одной стороны, конечно, я порадовалась за Эмили: явный прогресс в ее развитии и духовном созревании. Но не могла не ощутить и тревогу, ибо такой настрой, такое течение мыслей могут вести к отчаянию, к мыслям о самоубийстве. И, во всяком случае, высасывают из человека всю энергию.
Но вслух я сказала совсем иное:
— Согласна, каждого из нас можно заменить. Но это еще не причина для того, чтобы целыми днями валяться в кровати и хандрить. И с чего ты вдруг именно сейчас об этом задумалась? В чем причина?
Эмили усмехнулась. Соображала она очень быстро.
— Ну, я не собираюсь себе глотку перерезать. — И тут же крикнула: — Да если и перережу, что из этого?
Я вздрогнула от неожиданности.
— Морин? — вырвалось у меня непроизвольно.
Глупость моя вернула Эмили самообладание. Она глянула на меня — не впервой, я уже привыкла к такого рода ее взглядам. Полунасмешливым, полупрезрительным. Не удар, нет, всего лишь небрежный тычок носком ботинка. «О-о-о, изменщик коварный!.. Как жить дальше?..»
— Морин? — Она как будто собиралась отвернуться и промолчать, но потом все же снизошла до продолжения: — В данный момент не Морин, а Джун.
И она с усмешкой дождалась моей реакции:
— Как? Не может быть! Это невозможно!
— А-я-яй, нехорошо, да?
— Но Джун… Сколько же ей лет?
— Вообще-то одиннадцать, но она всем говорит, что двенадцать.
Улыбка Эмили стала чуть ли не удовлетворенной, ее философия торжествовала. Мое явное неодобрение добавило ей энергии, она даже засмеялась. Язык у меня заплетался, я понимала, что любые слова мои подвергнутся осмеянию. Не дождавшись моей реплики, Эмили продолжила: