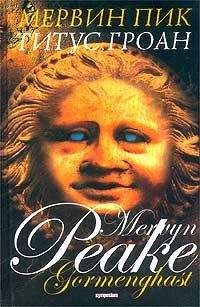Никто в этом колоссальном конклаве перемещенных лиц Титуса прежде не видел. И каждый почитал таковое неведение личным и только личным своим недочетом – уж слишком обширно и скученно было местное население.
Что до Вуала, его многие знали в лицо, многие признали эту паучью походку, пулевидную головенку, безгубый рот. В нем чуялось нечто несокрушимое, как будто тело его состояло из вещества, которое не ведает боли.
Он приближался, и тишина, такая же осязаемая, как любой из звуков, пала на арену, уплотнив самый воздух вокруг. Происходящее проняло даже самых пустопорожних и невосприимчивых из собравшихся здесь персон. Ничего не ведая о причинах схватки, они, тем не менее, трепетали, наблюдая, как сокращается расстояние между противниками.
Каким образом новость о предстоящем поединке достигла самых отдаленных окраин и принесла сюда, едва ли не на крыльях возвратного эхо, такое скопище людей, сказать затруднительно. Но к этой минуте в Подречье не было уголка, в котором не знали бы о происходящем.
Голова за головой, выстроившиеся в длинные вереницы, – стесненные, многочисленные и плотные, точно россыпь рыжеватого сахара с физиономией на каждой крупинке, – зрители сидели и стояли не шевелясь.
Отвести взгляд от любого из этих лиц значило потерять его навсегда. То был делирий голов: несчетное их изобилие. Конца ему не предвиделось. И какая же стремительная, изменчивая, бьющая струей изобретательность присутствовала в этом изобилии. Всякое телодвижение тонуло в нем – тонуло, оставляя смутно саднящее чувство насильственной утраты, и обращалось в ничто.
И повсюду – свет ламп, отталкиваемый зеркалами. Неглубокая лужа в центре круга отражала длинные потолочные балки; отражала мокрую крысу, лезшую вверх по скользкой подпорке, отражала проблеск ее зубов и настырную настороженность ужасного хвоста.
Где-то в гуще толпы сидел Швырок. На недолгое время он забыл о жалости, которую питал к себе – столь живое участье пробудило в нем положение юноши.
Сплетя в глубинах карманов руки, он смотрел вниз, на сырую арену. В нескольких футах от него (хоть оба и потеряли друг друга из виду) горбился Шуллер. Не отрывая взгляда от Титуса, он покусывал кулаки и гадал, что сможет сделать безоружный молодой человек.
Футах в тридцати-сорока от Швырка и Шуллера стоял Трезвозник, а на другом, дальнем краю арены держали друг дружку за руки старики – Иона и его «белочка».
Треск-Курант, обыкновенно столь неприятно веселый, сидел, задрав кверху плечи, будто какая-нибудь продрогшая птица. Щеки его обвисли, рот приоткрылся. Он стискивал ладони, и хоть никакого его участия в стычке не предполагалось, ладони были холодны и влажны, и пульс бился неровно.
Рактелка, прикованного к узилищу его книг, притащили на арену прямо в кровати. Кровать, когда ее оторвали от пола, оставила после себя прямоугольник глубокой и пышной пыли.
В тишине раздавался голос реки, приглушенный, едва слышный, и все-таки вездесущий и опасный, как океан. Не столько звук, сколько предостережение вышнего мира.
Остановившись в центре «ринга», Титус повернулся к врагу, к страшному Вуалу. Надежд у юноши было мало, ибо противник, похоже, состоял сплошь из костей и жил, к тому же Титус помнил, как быстро оправился он от удара в живот. Титус не просто боялся его: приближавшийся Вуал наполнял юношу ужасом – эта Тварь с пропорциями пугала, Тварь, казавшаяся гигантской.
Титус словно очутился лицом к лицу с машиной: созданием, лишенным нервной системы, сердца, почек – любых уязвимых органов.
Черная одежда липла к Вуалу, будто намоченная, подчеркивая протяженность его костей. Достойную скорее скелета поясницу стягивал широкий кожаный пояс, медная пряжка которого мерцала в свете ламп.
Вуал приближался, и Титус увидел, что рот его втянут вовнутрь, отчего губы, и без того тонкие, обратились в не более чем бескровную нить. Это в свой черед натянуло кожу над ними, так что скулы Вуала выдались, обретя сходство с небольшими камнями. Глаза поблескивали меж веками, создавая впечатление сгущенной свирепости, достаточное, чтобы убедить любого в безумии Вуала.
На один только миг сгущенность эта разжижилась, на миг, за который глаза Вуала пронеслись по многоярусной толпе: нет, Черной Розы там не было и следа. Он вновь обратил взгляд к Титусу, потом задрал голову и увидел огромные балки, прорезавшие тусклый воздух вверху, увидел высокие подпорки, зеленые, осклизлые от мха, и, когда глаза его скользнули по гниющей колонне вниз, увидел крысу.
Тогда, не упуская из виду Титуса, но краешком глаза следя и за крысой, он начал вдруг смещаться скользящими движениями влево, пока потеющая колонна не оказалась от него на расстоянии вытянутой руки.
Что-то вроде вздоха облегчения вырвалось у толпы. Любой непредвиденный поступок был предпочтительнее неотвратимого сближения двух столь неравных противников.
Но облегчение продлилось недолго, ибо нечто худшее, чем ужас безмолвия, заставило зрителей вскочить на ноги, когда Вуал движением слишком стремительным, чтобы за ним уследить, движением, подобным выхлесту кобрина языка или швырку кальмарова щупальца, выбросил в сторону длинную левую руку и, сдернув с колонны съежившуюся крысу, с хрустом выдавил из нее длинными пальцами жизнь. Послышался вскрик, и вновь наступило молчание, еще более страшное, поскольку Вуал повернулся к Титусу.
– Следующий – ты, – сказал он.
Титус согнулся, извергая блевоту, и Вуал метнул в него задавленного зверька. Тот с глухим стуком упал в нескольких шагах от юноши, и Титус, не сознавая в лихорадке страха и ненависти, что делает, отодрал от своей рубашки кусок ткани, сложил его и, опустившись на колени, накрыл мертвого грызуна.
И еще не поднявшись с колен, увидел призрак движения и с криком отпрыгнул назад, ибо Вуал почти уж достиг его. Мало того, в руке Вуала появился нож.
С дальнего края ринга Черная Роза увидела взблеск By а лова ножа. Она-то знала, что нож этот наточен до бритвенной остроты, видела, что Титус безоружен, и потому, собравшись с силами, крикнула:
– Отдайте ему ножи… ваши ножи! Это зверь убьет его.
Людское скопление словно очнулось от кошмарного сна или транса, сотни рук скользнули к сотням поясных ремней, и в следующие десять секунд воздух озарился сверканием стали, и огромное эхо ударов металла о камень прокатилось вокруг. Ножи всех разновидностей, подобно звездам, усыпали землю. Одни упали на сухие ее участки, другие поблескивали в лужах.
Но лишь один – длинный и тонкий, наполовину нож, наполовину шпага, – вырвал Титуса из оцепенения, просвистев мимо его головы и с плеском упав в некотором отдалении от Вуала. Титус метнулся к стилету, выхватил его из мелкой воды и захохотал во все горло: не от радости – от облегчения, оттого, что у него теперь было за что держаться: нечто отточенное, куда более колкое и опасное, чем голые руки.