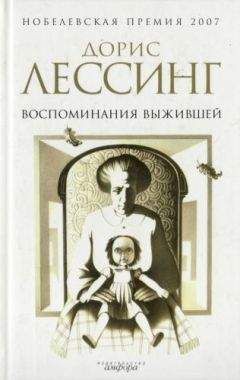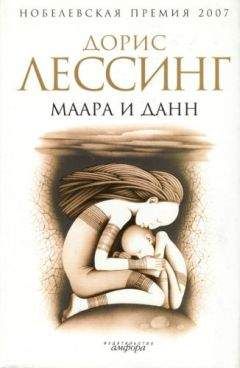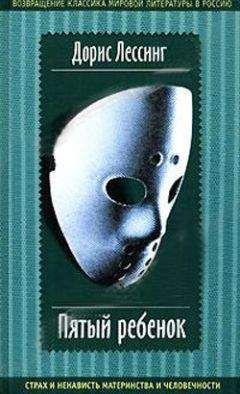А Хуго? На него у Эмили больше не оставалось времени. Если раньше, возможно, зверь и удерживал ее здесь, то этот период давно миновал. Однажды Хуго на моих глазах вспрыгнул на подоконник открытого окна, и все проходящие мимо могли любоваться его безобразным обличьем. Вызов отчаяния. Конечно, его заметили. Ребятишки подбегали поближе. «Глянь, во, уродина!.. Ну и образина!..» — выкрикивали пяти-шестилетки, давно отвыкшие от того, что в доме на правах члена семьи, всеобщего любимца может находиться четвероногое существо. Да уж, если Хуго не избегнет общей участи домашних и бродячих собак, если придет его время отправиться в котел, никто не заступится за него, не взмолится: «Не надо, не убивайте его, он такой хорошенький!»
Что ж… Возвращаясь домой, Эмили заметила желтое пятно, подсвеченное снаружи угасающим закатом, а изнутри тусклым мерцанием свечи. Ее потрясло это пренебрежение инстинктом самосохранения.
— Хуго… Хуго, милый мой… О, Хуго…
Он не повернулся к Эмили, даже когда та обняла его, зарылась лицом в загривок. Он представлял собой олицетворенный немой упрек. Хозяйка стащила Хуго на пол, уселась с ним рядом, расплакалась нервным плачем уставшей, измотанной женщины. Я молча наблюдала. С дивана смотрела Джун. Наблюдал и Хуго. Он лизнул ее руку, расслабился, улегся, как будто говоря: «Пусть тебя это порадует: если я тебе не дорог, то мне и жизнь не дорога».
Жизнь Эмили снова усложнилась. Она носилась из моего дома в тот, общий дом коммуны, оттуда на подзаборный «форум». Она обязателыю забегала увидеть Джун, подкормить ее, уложить спать — если не проследить, чтобы эта девочка отправилась в постель, она вполне может провести всю ночь на диване, следя за вялотекущими изменениями в организме. Надо было побеспокоиться и о Хуго, выдать ему ежедневную дозу любви, как больному по предписанию лечащего врача. Наконец какие-то рудименты внимания и старухе-опекунше, моей персоне — какую-то нагрузку для психики Эмили я все же, льщу себя надеждой, представляла. Но стоило ей задержаться — и за ней прибегал какой-нибудь добровольный посыльный. Я искренне жалела Эмили.
И вдруг все кончилось.
Ситуация разрешилась: Джун исчезла.
Однажды она вдруг поднялась с дивана и вышла на мостовую. Почему? Зачем? Не имею ни малейшего представления. Я никогда не могла постичь мотивов ее поступков. Джун снова слилась с толпой, не присоединяясь к какой-либо группе. Ее плоскую фигурку носило от одного клана к другому, появлялась она и среди «своих», людей Джеральда. Заметила я ее мельком и с женщинами. В эту ночь женщины исчезли — и Джун вместе с ними.
Сначала мы не поверили, точнее, ничего не поняли. Джун нигде не было: ни дома, ни в коммуне, ни на мостовой. Ошеломленная Эмили бегала, искала, расспрашивала. Она и представить себе не могла, что Джун вот так исчезла, даже не оставив весточки. Да, кто-то слышал, что она прожевала что-то насчет «двинуть отсюдова».
Более всего Эмили расстроило то, что подруга ушла не попрощавшись, даже не передав через кого-нибудь хоть словечко. Мы обсуждали ее исчезновение, собирали по крохам, чаще изобретая их, хоть какие-нибудь свидетельства, улики. Наконец решили придать вес маловразумительной фразе, оброненной Джун дня за два до этого. «Ну, чё, как-ндь свидимся авось», — буркнула она тогда, обращаясь к диванной спинке. И это считать прощанием?
Неужели мы с Эмили не стоили для Джун даже прощания? Не укладывалось такое в голове ни у меня, ни тем более у Эмили. Может быть, девочка опасалась, что мы попытаемся ее остановить? Нет, вряд ли. Ее никогда никто ни к чему не принуждал. Шокирующая правда состояла в том, что Джун попросту считала себя не стоящей прощания, слишком маловесной как личность. Есть она, нет ее — какая разница? И это несмотря на то что Эмили так о ней пеклась, окружала заботой. Да, Джун не ценила себя. Любовь и забота могли вливаться в нее, как в бездонный сосуд, не оставляя следа. Эту девочку ничто не сдерживало: она никому ничего не должна, ее пропажу никто и заметить не должен. Нет ее больше, как будто никогда и не было. Возможно, какая-нибудь женщина из группы проявила по отношению к ней добрые чувства, и Джун откликнулась на ее доброту, как раньше откликалась на доброту Эмили. Она ушла, потому что была готова уйти в любой момент. Ничто ничего не значило, в том числе и она. В конце концов мы остановились на том, что энергичная руководительница группы захватила Джун в сферу своего влияния как раз тогда, когда Эмили отвлекли заботы по коммуне, когда Эмили не могла уделять младшей подруге прежнего внимания.
Эмили не могла этого постичь. Эмили плакала. Поначалу бурно рыдала, ее трясло, она гримасничала, как ребенок, не постигающий, как такое могло случиться с ним. Невозможно! Где справедливость? Потоки слез, мокрый нос, рычание и взвизгивания — демонстрация скорби, но еще не скорбь, не настоящие женские слезы.
Женские слезы пролились позже.
Глаза закрыты, руки на бедрах, фигура раскачивается, как дерево на ветру, взад-вперед, вправо-влево. Слезы женщины — как земля кровоточит. В ее исполнении плач женщины не оставил меня равнодушной. Кто смог бы так плакать? Старуха такого плача не осилила бы. Старческие слезы жалки, иногда внушают отвращение. Слезы старухи не взывают к чувству справедливости, она понимает тщетность таких потуг. Малое дитя плачет так, будто вся скорбь Вселенной сосредоточилась в нем. В женском же плаче главное не боль, а окончательность приятия зла. Так было, так есть и так будет, так должно быть. Вот о чем говорят закрытые глаза, раскачивание тела. Скорбь, разумеется, траур… Враг может встретить сопротивление, с отдельным противником можно даже справиться, одолеть его, но битва проиграна, все пропало, все растоптано, разрушено, ожидать более нечего…
Надо признать, каждое мое слово, которое ложится на бумагу, граничит с фарсом. Откуда-то с заднего плана доносится смех, такой же, что слышен в только что описанном женском плаче. И в жизни часто слышен смех, столь же нетерпимый, сколь и слезы. Я сидела, наблюдала Эмили, труженицу вечного женского плача, добросовестно выполняющую свою норму. Я могла бы и выйти, ибо зрители ей ни к чему, моего присутствия она не замечала. Попытаться утешить? Обнять, предложить чашку чаю? Всему свое время. Пока следовало просто смотреть и слушать. Слушать и размышлять. «Чего??? Чего на свете? Чего могла она ожидать?» — таким вопросом мог задаться наблюдатель: муж, любовник, мать, подруга — любой, кто лил когда-то такие же слезы, в особенности же муж или возлюбленный. «Чего могла ты ждать от меня, от жизни такого, чтобы сейчас настолько безутешно надрываться? Это ведь невозможно, неужели ты не видишь? Никто не в состоянии наобещать такого, чтобы оправдать подобный надрыв. Неужто ты не можешь этого понять?» Но толку от таких вопросов… Слепые глаза глядят сквозь тебя, не видя. Они видят какого-то древнего врага, которым ты, благодарение небесам, не являешься. Нет, это Жизнь-Судьба-Рок поразили страдалицу в самое сердце, и вечно будет лить она слезы, в вечной скорби застынет она.