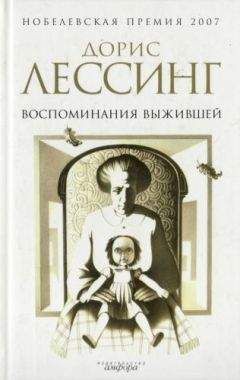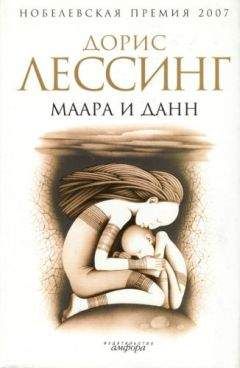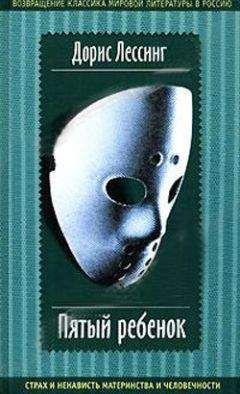Женские слезы пролились позже.
Глаза закрыты, руки на бедрах, фигура раскачивается, как дерево на ветру, взад-вперед, вправо-влево. Слезы женщины — как земля кровоточит. В ее исполнении плач женщины не оставил меня равнодушной. Кто смог бы так плакать? Старуха такого плача не осилила бы. Старческие слезы жалки, иногда внушают отвращение. Слезы старухи не взывают к чувству справедливости, она понимает тщетность таких потуг. Малое дитя плачет так, будто вся скорбь Вселенной сосредоточилась в нем. В женском же плаче главное не боль, а окончательность приятия зла. Так было, так есть и так будет, так должно быть. Вот о чем говорят закрытые глаза, раскачивание тела. Скорбь, разумеется, траур… Враг может встретить сопротивление, с отдельным противником можно даже справиться, одолеть его, но битва проиграна, все пропало, все растоптано, разрушено, ожидать более нечего…
Надо признать, каждое мое слово, которое ложится на бумагу, граничит с фарсом. Откуда-то с заднего плана доносится смех, такой же, что слышен в только что описанном женском плаче. И в жизни часто слышен смех, столь же нетерпимый, сколь и слезы. Я сидела, наблюдала Эмили, труженицу вечного женского плача, добросовестно выполняющую свою норму. Я могла бы и выйти, ибо зрители ей ни к чему, моего присутствия она не замечала. Попытаться утешить? Обнять, предложить чашку чаю? Всему свое время. Пока следовало просто смотреть и слушать. Слушать и размышлять. «Чего??? Чего на свете? Чего могла она ожидать?» — таким вопросом мог задаться наблюдатель: муж, любовник, мать, подруга — любой, кто лил когда-то такие же слезы, в особенности же муж или возлюбленный. «Чего могла ты ждать от меня, от жизни такого, чтобы сейчас настолько безутешно надрываться? Это ведь невозможно, неужели ты не видишь? Никто не в состоянии наобещать такого, чтобы оправдать подобный надрыв. Неужто ты не можешь этого понять?» Но толку от таких вопросов… Слепые глаза глядят сквозь тебя, не видя. Они видят какого-то древнего врага, которым ты, благодарение небесам, не являешься. Нет, это Жизнь-Судьба-Рок поразили страдалицу в самое сердце, и вечно будет лить она слезы, в вечной скорби застынет она.
Вволю наплакавшись, Эмили завалилась на бок, свернулась калачиком на полу, продолжила ритуал серией вздохов, пошмыгала носом, икнула разок-другой и, наконец, заснула.
Проснувшись, она не заспешила в другой дом, не выбежала на мостовую. Уселась на полу и принялась размышлять, пытаясь сориентироваться в новых для себя условиях. Неизвестно, до чего бы она додумалась, если бы не новое вмешательство извне.
Пришел Джеральд. Он и раньше появлялся, чтобы обсудить текущие вопросы, так что в его приходе не было ничего нового. Поэтому мы тогда не поняли, что проблема, которую он с собой принес, представляет собой нечто новое. Он и сам этого пока еще не сознавал.
Джеральд пришел «потолковать о детишках», о новой банде, за судьбу которой он чувствовал себя ответственным. Квартировали они под землей, совершая оттуда набеги на поверхность. В этом, в общем-то, не было ничего нового. Многие селились в подземных коммуникациях города, хотя подобное и казалось странным. Ведь на поверхности пустовало немало значительно более пристойной жилплощади. Но те, подземные, в массе своей опасались полиции и чувствовали себя в трубах и бункерах в большей безопасности, жили под землей, как живут там кроты и крысы. Джеральд ждал помощи от Эмили, хотел, чтобы она поддержала его своей энергией, уверенностью, сноровкой.
Он лучился энтузиазмом — Эмили гасила его энтузиазм вялой инертностью. Для зрителя одно удовольствие. «Ага, сейчас я тебе понадобилась, и ты приполз на коленях, — как бы говорила Эмили. — А когда я с тобой, тебе до меня дела нет, ты с другими развлекаешься». Она кривила губы и отворачивалась. Он ежился, бросал на девушку искательные взгляды, вздыхал, разводил руками… в камерном спектакле пара сорвала бы заслуженные аплодисменты.
Они сыграли эту интермедию до конца. Джеральд выглядел совсем мальчиком, в драных джинсах и свитере. Утомленный, придавленный грузом множества забот. Ему бы подкормиться да отоспаться. Чем это противостояние могло окончиться? Разумеется, Эмили улыбнулась едва заметной улыбкой, о причинах которой можно было только гадать. Разумеется, Джеральд рьяно продолжил изложение мучивших его проблем, и вскоре оба уже живо обсуждали дела своей коммуны, как пара молодых родителей, озабоченных положением дел в семье. Разумеется, Эмили ушла с ним, и несколько дней я ее не видела. Проблема «подземных ребятишек» ушла с ними, но всплыла через несколько дней, и узнала я о ее сути не только от Эмили. Об этом заговорили все окружающие.
Новая проблема. Далеко ушли мы за недолгое время. Давно ли всплыли слухи о мигрирующих группах? Давно ли мы впервые — со страхом — увидели под своими окнами толпы людей, тянувшиеся сквозь город? Мы считали тогда, что достигли апогея анархии. Но прошло время, и мы задумались, как бы нам самим присоединиться к очередной толпе беженцев. В конце концов в этих толпах, на первый взгляд беспорядочных и неуправляемых, тоже правил закон — свой закон, свои правила, неписаные. И эти правила легко можно было усвоить.
Чего никак нельзя было сказать о «подземных ребятишках». Никто не знал, чего от них ожидать. Раньше беспризорные дети прибивались к семьям, к группам. Трудные дети, эти беспризорники, не такие, как дети стабильного общества, но все же управляемые. Совершенно иными оказались шайки «новых», появившиеся чуть ли не одновременно в разных районах города и не поддававшиеся никаким влияниям, уклонявшиеся от любых попыток их приручить, ассимилировать. Дети дошкольного и младшего школьного возраста, самым «взрослым» не более десяти. Казалось, они вообще не знали родителей, не испытывали влияния семьи. Они крали, брали то, что нужно было для выживания, — а нужно было им очень немного. Тряпье, чтоб прикрыться, пища. С животными, которых можно приласкать, приручить, их не сравнишь. Они сбивались в кучу, но эта куча не была сообществом, жившим по законам стаи. Каждый за себя, толпа нужна лишь для защиты себя. Они охотились стаей, но тут же могли передраться, вплоть до убийства друг друга. Никакой дружбы, лишь общая цель объединяла их на какой-то преходящий период, как будто у этих ребятишек не было памяти. В «нашей» стае было их голов тридцать — сорок. Впервые я заметила в людях признаки паники. Кого позвать? Полицию? Армию? Выкурить зверенышей из коллекторов!
Помню, одна из моих соседок попыталась выйти к ним с пищей, встретила пару «подземных гномов», рыскающих в округе. Она угостила их, пыталась заговорить. Пищу ребята одолели моментально, вырывая один у другого, рыча и угощая друг друга тумаками, и мгновенно улетучились, не обращая более внимания на женщину, в раздумье опустившуюся на ступени заброшенного пакгауза. Место хорошо просматривалось, и она вскоре увидела… К ней подкрадывалась толпа детей, вооруженных луками и стрелами. Дети целились в нее! Ошеломленная женщина принялась их уговаривать, но говорила она, по ее собственному впечатлению, в пустоту. Ее не понимали. Не потому, что эти ребята не понимали человеческую речь, — они переговаривались между собой не только рычанием и криком, но и перебрасывались исковерканными, модифицированными согласно их насущной потребности словами, обрывками фраз. Женщина говорила, говорила, боясь пошевелиться, а они подкрадывались ближе, не опуская луков, в глазах — жуткая злость. Она вскочила и пустилась наутек. Откуда-то сбоку выскочил малыш и дернул ее за юбку. Он глядел на нее, не вынимая пальца изо рта и ухмылялся, не соображая, что делает. Остальные с воплями бросились к ней, и она понеслась прочь что было силы. Вбежав в заброшенный «Парк-отель», соседка моя забаррикадировалась в номере на четвертом этаже и оставалась там дотемна.