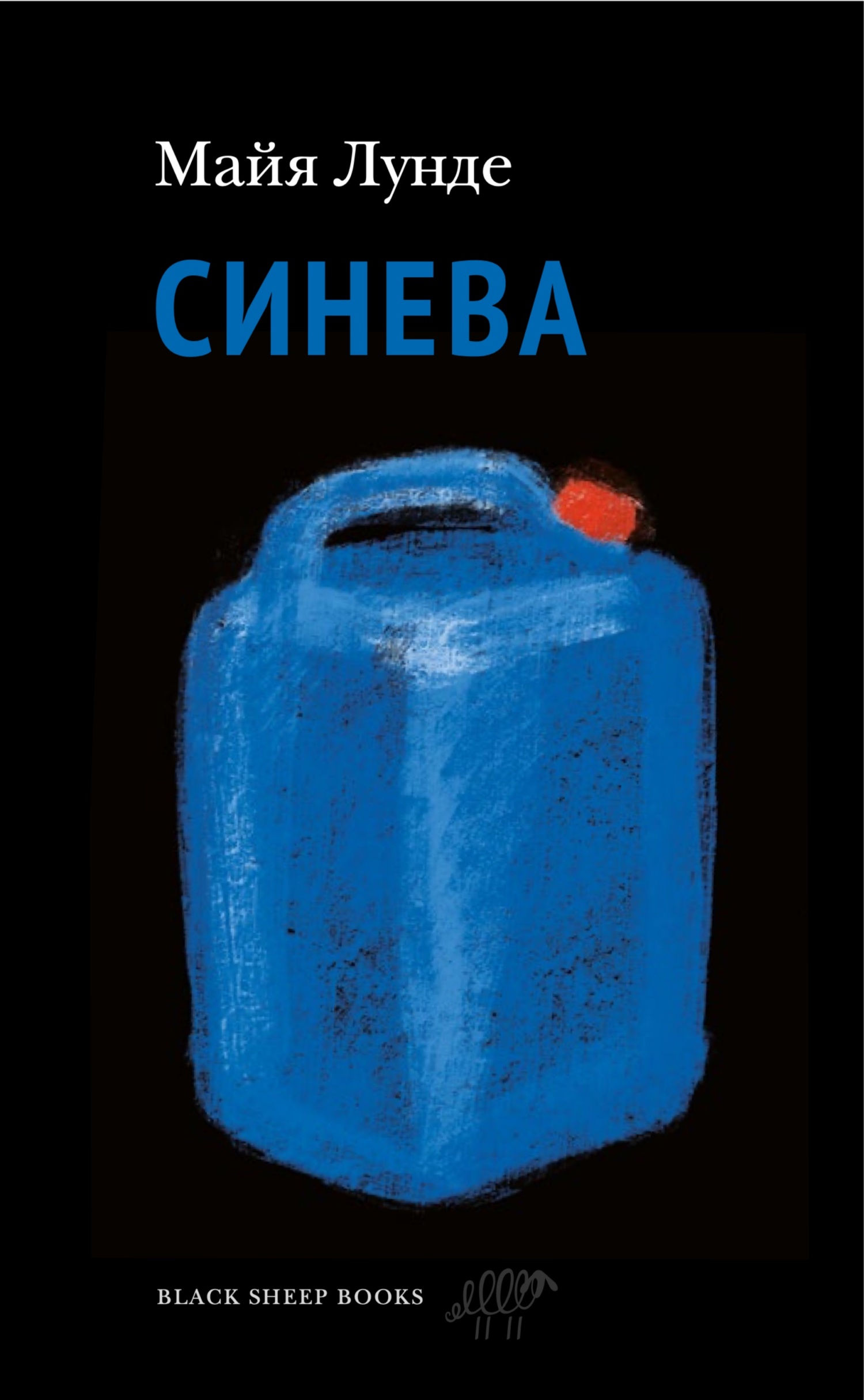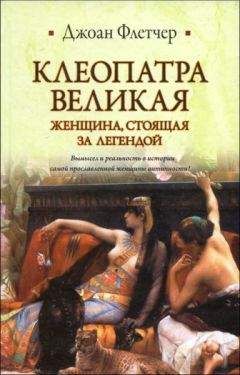я.
Она стояла рядом, и я поняла, что для мамы это почему-то важно, важен этот снег, который на самом деле лед, но почему именно, я не понимала, а сейчас и папа к ней подошел, вот только он не улыбался.
– Это что? – спросил он у мамы.
– Помнишь, – сказала мама мне, – ты хотела, чтобы день рожденья у тебя был зимой?
– Нет, – ответила я.
– Помнишь, у Биргит на день рожденья пошел снег, а ты заплакала? – продолжала мама. – И попросила себе на день рожденья снеговика, помнишь?
– Ты что, это все с горы привезла? – спросил папа маму, и голос его прозвучал как-то напряженно.
– Сёнстебё привез, он все равно лед повез в рыбоприемник, – ответила мама.
Я обернулась и увидела Сёнстебё, фермера из Эйдесдалена. Он стоял возле грузовичка, улыбался и словно бы ждал чего-то от меня, а позади стоял его сын, Магнус.
Это был ты, Магнус. Я и раньше знала, кто ты такой, потому что твой отец иногда привозил к нам в отель лед и тебя с собой брал, и тем не менее именно ту нашу встречу я считаю первой. Босой, с загорелыми грязными ногами, ты стоял и, как и все остальные, ждал чего-то, ждал меня. Ты смахивал на белку с круглыми коричневыми глазами, от которых ничто не ускользало. Тебе всего-то восемь лет было, но ты, похоже, понял, что происходит что-то важное, о чем не говорили, понял, что рядом есть тот, кому ты нужен или будешь нужен.
Вот какой ты был. Вот какой был он.
– То есть Сёнстебё два раза пришлось кататься? – тихо спросил папа. – И он дважды в горы поднимался?
Я надеялась, он обнимет маму, как иногда обнимал – обхватит ее рукой и прижмет к себе, – но папа не шелохнулся.
– У Сигне день рожденья, и она хотела себе такой подарок, – сказала мама.
– А Сёнстебё за работу что получит?
– Да ему только в радость. Он в восторг пришел, когда я ему рассказала.
– От твоих идей все в восторге.
Мама обернулась ко мне.
– Ну вот, Сигне, теперь и снеговика слепить можно. Ты что, не хочешь? А давайте все вместе слепим!
Снеговика мне лепить не хотелось, но я согласилась. На белых кочках, которые мама называла снегом, мои маленькие туфельки скользили, я поскальзывалась и едва не падала, но мама крепко держала меня.
Влага холодила подошвы, жесткие крупинки льда засыпались в обувь и таяли, тонкие гольфы промокли. Я нагнулась и, зачерпнув снега, попыталась слепить снежок, но снег рассыпался, словно сахарная пудра. Я подняла голову. Все смотрели на меня. Все гости смотрели. Магнус как будто окаменел, живыми остались лишь глаза, он переводил взгляд с меня на снег, Магнусу ни разу не дарили на день рожденья снег, такие подарки делают только дочерям владелиц отелей, и я жалела, что он это видит.
А вот мама улыбалась, улыбалась так же широко, как та кукла, самая большая во всем магазине, и я снова попыталась слепить снежный ком, мне надо было во что бы то ни стало слепить здоровенного снеговика, хотя у меня совершенно вылетело из головы, что я, оказывается, мечтала о дне рожденья зимой, что я говорила это маме и что плакала на дне рожденья Биргит. Но я, как выясняется, плакала, и теперь папа рассердился на маму, а мама дарит мне только подарки, о которых я и не подозревала, что они мне нужны. Возможно, я когда-то у нее и куклу попросила, просто забыла. Это я виновата, во всем виновата я: в том, что стою посреди двора, в том, что ноги заледенели, а с пальцев капает ледяная вода, в том, что все смотрят на меня как-то странно, что двор покрывается жидкой грязью, становится мокрым и отвратительным, что папа смотрит на маму взглядом, которого я не понимаю, и что он сунул руки в задние карманы брюк, отчего ссутулился еще сильнее, и что Магнус тоже тут. Всем своим колотящимся семилетним сердцем я жаждала, чтобы он не смотрел на меня так.
И поэтому я соврала, соврала впервые в жизни, некоторые дети умеют лгать, они даже не задумываются, им ничего не стоит заявить, что никакого печенья они не ели или что где-то потеряли дневник, но я была другая. Природа не одарила меня богатым воображением, выдумщицей я не была – возможно, потому и лгать не умела. Прежде я еще не попадала в ситуацию, когда мне надо было бы соврать, что подобное вообще возможно, мне вообще в голову не приходило, я не догадывалась, что ложью можно что-то исправить, намного проще было сказать, как оно есть.
Однако сейчас я соврала, ложь сама собой появилась, ведь это я во всем виновата, во всем, так я думала, стоя посреди двора, с ледяными ногами в мокрых гольфах и сладостью, подкатывающей к горлу. Надо, чтобы папа перестал так смотреть на маму, и поэтому я соврала, надо, чтобы он вытащил руки из карманов и обнял маму.
Я придумала эту ложь, она придумалась за миг, и я озвучила ее – тихо, в надежде, что голос мой звучит естественно:
– Да, мама. Помню. Я хотела день рожденья зимой. Я вспомнила.
И чтобы вранье получилось правдоподобным, я набрала пригоршни смахивающего на грязную сахарную пудру снега и протянула его маме и папе.
– Спасибо. Спасибо за лед.
Ну вот, думала я, теперь все будет хорошо. Но ничего не произошло, кто-то из гостей тихо кашлянул, двоюродная сестра потянула тетю за юбку и посмотрела снизу вверх, но взрослые смотрели на меня, будто бы ожидая еще чего-то.
Вот тут он и подбежал ко мне, Магнус, отошел от грузовичка и побежал ко мне, быстро переступая ногами по земле.
– Давай помогу, – сказал он.
Он наклонился – его мальчишеский затылок был загорелым и коротко стриженым – и, зачерпнув льда, слепил ком, намного лучше, чем у меня.
Магнус стоял на холодном льду босой, но ему, похоже, было все равно, потому что мы с ним принялись лепить из умирающего, тающего снега снеговика и я больше не обращала внимания на всех тех, кто стоял и смотрел на меня.
– Нам нос нужен, – сказал он.
– Морковка, – поправила я.
– Ну да, нос.
– Но это же морковка, – сказала я.
И он засмеялся.
Тембо, Бордо, Франция, 2041 год
Воздух на дороге перед нами дрожал от жары. Жара колыхалась, похожая на воду, но когда мы въезжали в волну зноя, воздух дрожать переставал.
Лагеря было по-прежнему не видно.