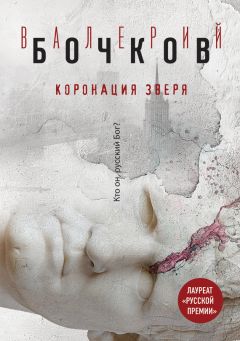– Конкретней можно? – перебила меня Зина; на ее лице появилось выражение, которое возникает у женщин прямо перед тем, как они собираются влепить тебе пощечину.
– Конкретней? – заорал я. – Можно! Не уверен только, что ты поймешь.
– А ты попробуй!
Кажется, мы снова перешли на «ты», но я не стал язвить, а постарался говорить спокойно и вразумительно.
– Я узнал, что у меня есть сын, всего неделю назад. Мой отец погиб, когда мне не было и четырнадцати, матери я вообще не помню. Я рос один, я знаю, что такое одиночество. Прекрати ухмыляться! Что ты об этом знаешь? Что ты знаешь о боли? Когда… когда тебе так скверно, так больно тут, – я кулаком стукнул себя в грудь, – что хочется просто сдохнуть. Сдохнуть! Для тебя это сладкие слюни, щенячьи нежности – пусть, пусть… да и не дай тебе бог узнать этой боли! Не дай бог…
Я запнулся; со стороны Лубянки донесся истошный вопль, какой-то звериный и от того еще более жуткий, что было ясно: это кричит человек. Вопль оборвался, и тут же вслед за ним раздался рев толпы – так в тысячу глоток орут болельщики на стадионе после забитого гола. Вместе с ревом долетел бой барабанов. «Така-така-така-так», – дробно гремели барабаны. Звук нарастал, ширился. Мимо нас в сторону Красной площади побежали люди с испуганными лицами.
– Что там? – крикнул я, пытаясь остановить хоть кого-то. – Что?
Люди бежали, какая-то женщина хотела что-то сказать, но махнула рукой и кособоко побежала дальше. На одной туфле у нее был сломан каблук. Барабаны гремели все ближе и ближе. Я ухватился за водосточную трубу, подтянулся, встал на раму витрины.
– Ну? Что там? – Зина дернула меня за штанину.
Вся Лубянская площадь была забита народом. Плотная толпа, точно густая лава, втекала на Никольскую и неспешно ползла к Кремлю. Неспешно и неукротимо. Я вспомнил слова Сильвио – неужели он прикажет стрелять?
– Толпа! – Я спрыгнул на асфальт. – Прет толпа.
– Надо бежать! – Зина схватила меня за рукав. – Что ты стоишь, как…
Она не нашла сравнения, а я подумал о пулеметах на Кремлевской стене.
– Туда нельзя. – Я распахнул дверь в булочную. – Давай сюда! Наверняка есть выход во двор.
Мы вылезли в окно. Пробирались дворами, потом через какую-то стройку. Неожиданно вышли к пустырю, обнесенному забором.
– «Площадь Революции»… – Задыхаясь, я вытер лицо рукавом. – Метро.
На станции «Охотный Ряд» было людно и шумно, в испуганном гуле голосов то и дело повторялось одно слово: «Шахтеры». Подошел поезд, мы втиснулись в вагон. Какая-то тетка (лица я не видел, лишь всклокоченный затылок) громко пересказывала события. Вспыхнула неизбежная русская склока, страстная и абсолютно бессмысленная.
– А вам говорю, мильон! А может, и больше!
– Вы, гражданка, представляете себе миллион человек? – язвительно вопрошал высокий мужской голос.
– Вас там не было! – парировала тетка.
– А я вам говорю, что на всей Лубянской площади может от силы тысяч пять поместиться. Ну семь. Ну уж никак не миллион!
– Ну, так они с других улиц перли! Вот ведь голова садовая!
– Не смейте меня оскорблять! – взвился голос до фальцета.
– Да нужно мне очень! Оскорблять его…
На середине перегона включилась трансляция в вагоне:
– Граждане пассажиры! – Мрачный голос машиниста прорвался сквозь треск динамиков. – На станции «Лубянка» высадка и посадка пассажиров производиться не будет. Поезд проследует без остановки. Повторяю…
Вагон притих, колеса настырно долбили один и тот же нервный ритм. Внезапно взвыла сирена локомотива, с этим жутким воем, усиленным и умноженным подземным эхом, мы вырвались из тьмы и понеслись мимо ярко освещенной платформы. Платформа была забита, эти люди стояли стеной.
Не сбавляя скорости, мы неслись мимо них; на платформе поднялся страшный гвалт, люди орали, размахивали руками, кто-то саданул бутылкой в окно. По стеклу паутиной расползлась трещина, с той стороны потекла какая-то пузырчатая гадость.
Мы летели мимо яростных лиц, мимо безумных глаз, мимо орущих ртов – я был уверен, если бы им удалось ворваться в вагон, нас бы просто растерзали. Сирена наконец заткнулась, состав нырнул в туннель. Вагон болтало, я дотянулся до стального поручня, мерзко теплого от чьей-то ладони. Машинист выжимал на всю железку, казалось, он тоже побаивался, что нас догонят те, со станции. Стальной перестук слился в могучий утробный гул, от вибрации пола зудели пятки; мы уже неслись, почти не касаясь рельсов – такое ощущение по крайней мере было у меня. Впрочем, похоже, не только у меня – Зина намертво вцепилась мне в руку, ее ногти все сильнее и сильнее впивались в мою ладонь. Прижав ее плотней, я зачем-то поцеловал ее в макушку, в черный монашеский платок.
Неожиданно поезд начал тормозить. Хрипло завизжала сталь, точно точили гигантскую саблю. Пассажиров кинуло вперед. Народ испуганно заохал, кто-то во весь голос коротко выматерился. Потом наступила жутковатая тишина. За окном чернел туннель в толстых щупальцах пыльных проводов. Люди начали перешептываться. Некий балагур, непременный персонаж любой группы людей, строгим баритоном произнес:
– Поезд дальше не пойдет. Просьба освободить вагоны!
Никто не засмеялся. Ожили динамики, раздался хруст, словно кто-то мял яичную скорлупу у микрофона. Машинист кхекнул и хмуро произнес:
– Поезд возобновит движение через несколько минут. Ждем сигнала.
Он прокашлялся и выключил трансляцию. Снова стало тихо. Было что-то необъяснимо гнетущее в этой тишине: люди молчали, казалось, старались не дышать, точно малые дети, что прячутся под кроватью от Бабы-яги. Впрочем, я сам был не лучше. Беззвучно сделав глубокий вдох, я прикрыл глаза и начал медленно считать от ста в обратном порядке.
Минуты через три в вагоне снова возник голос машиниста:
– Ждем зеленого сигнала. Прошу всех пассажиров сохранять спокойствие. Поезд возобновит движение, как только…
Внезапно трансляция оборвалась. И тут же, буквально через секунду, лампы в вагоне нервно заморгали и погасли. Стало темно, абсолютно темно. В этой кромешной черноте какая-то женщина рядом скорбно выдохнула:
– Приехали…
Зина притянула меня, испуганно прошептала в самое ухо:
– Мне кажется… я задыхаюсь.
– Дыши. – Я взял ее за плечи, постарался локтями отодвинуть стоявших рядом. – Глубже дыши.
В другом конце вагона мужской голос нервно потребовал:
– Ну не напирайте же вы в конце концов, честное слово! Напирает и напирает!
Кто-то крикнул:
– Тут женщине плохо!
– Господи! – заорал кто-то. – Ну сделайте что-нибудь! Она ж падает!