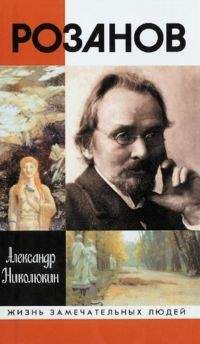«Ошиблись, ошиблись умники сраные!» - думал Пирогов, разглядывая приятное, но какое-то не очень живое лицо своего премьера и соратника: «На что они рассчитывали? На что рассчитывают теперь? И что они хотят от меня?».
Владимир Егорович несколько раз пытался выяснить это, но Фадеев-Заостровский уклонялся от прямых ответов, хмурился и заговаривал о чём-то другом. Вот и сейчас он спокойно и невыразительно рассказывал о сжимающемся кольце окружения. Ничего нового, ничего обнадёживающего. Последовала шумная дискуссия, в которой Пирогов не принял участия. Последние дни все предлагали одни и те же ходы, которые никуда не вели.
– Где же ваши китайцы? Почему они молчат? Вы же мне говорили, что вот-вот последуют решительные меры с их стороны? - истерично кричал министр информации Бурматов Фадееву.
…Глупость про китайцев откуда-то постоянно возникала на поверхности с самого начала мятежа. И Фадеев, и Лапников как-то неопределённо, но постоянно про это говорили, а министр информации Бурматов, облекал эти туманные намёки в грохочущие обещания скорой победы. Вот и вчера, выступая на внеочередной конференции Русского Народного Собора, Тимофей Сергеевич выпалил эти самые тезисы об ударе китайцами в тыл «сброду сепаратистов». Владимир Егорович во все это не очень верил, но, за неимением лучшего, и сам иногда повторял официозную ложь.
Этот самый Тимофей Бурматов сделал стремительную карьеру с очень низкого старта. Молодой учитель истории, он прорвался к Пирогову на одном мероприятии ещё в Рязани и в нескольких словах описал ему идеологию возрождения России. Так как ни сам Пирогов, никто из его окружения красиво и связанно говорить о тонких материях не умели, Бурматова взяли в обоз. Тимофей использовал ситуацию по полной программе и довольно быстро стал официальным идеологом режима. Потом уже выяснились его недостатки, которые тем рельефнее становились, чем очевиднее виднелся впереди крах. Так, Бурматов категорически не любил мыться, и чем больше он метался в ситуации разрастающегося кризиса, тем сильнее и отвратительнее воняло от него невыносимой кислятиной. Он был склонен к истерикам, которые обычно переходили в бурные и многословные проповеди. В более спокойные времена Пирогов и сам любил послушать его исступлённые пророчества о будущем величии России под его, Пироговым, правлением. Но чем хуже становилась реальность, тем нелепее были великодержавные проповеди Бурматова. Однако кому-то надо было успокаивать людей, писать и произносить бесконечные речи перед армией и населением, придумывать всё новые признаки скорой победы. Даже зная более-менее реальное положение дел, Пирогов всё-таки находил время послушать министра информации, удивляясь его наивной, почти религиозной вере, и черпая из его бреда более-менее правдоподобные объяснения ситуации и смутные обещания, а потом пересказывал их нуждающимся.
Последние недели, когда кольцо вокруг Москвы неуклонно сжималось и вопрос капитуляции вот-вот должен был встать во весь рост, Бурматов бегал с идеей тотальной войны, вычитанной в дневниках Геббельса. Иногда Пирогову казалось, что Бурматов сознательно разыгрывает последний акт гитлеровской трагедии.
Между прочим, Лапников как-то показывал Пирогову досье на министра информации. Из файлов следовало, что в молодые годы Бурматов принадлежал к тому странному течению в русской жизни начала века, которое странным образом сочетало в себе русский национализм и любовь к Гитлеру, причём не столько рационально-политическую, сколько какую-то мистическо-эстетическую: очарование чёрной свастики и бесноватого фюрера было для русских любителей Гитлера определяющим моментом. И вот теперь, по прошествии многих лет, юношеские умственные маструбации на Третий Рейх накладывали на поведение министра информации всё более заметный отпечаток.
…Дискуссия пошла на повышенных тонах и всё больше походила на коммунальную свару. Все выступающие обвиняли то военных, то полицию, то самих себя, но заканчивали, обычно, одним риторическим вопросом: что делать?
Пирогов в дискуссии не участвовал, тем более что никаких идей у него тоже не было. В итоге слово снова взял Бурматов и предложил раздать оружие молодёжи, люмпенам и всем желающим, а главное - начать планомерное уничтожение коллаборационистов - бывших и потенциальных.
Вообще, в последнее время Пирогов иногда тоже начинал думать, что продажный чиновничий аппарат стоит уничтожить, хотя бы в качестве последней услуги нации и стране. Впрочем, это всё он откладывал на крайний случай. Уже хотя бы потому, что у Пирогова не было ощущения, что его самого не убьют, когда механизм будет запущен: рыльце у него было в пушку, да и тупиковость ситуации рано или поздно станет очевидна всем. Собственно, устроить кровавую баню напоследок - это значит официально признать, что всё кончено и даже бежать уже поздно и некуда. Очевидно, у других участников заседания были свои резоны противится вооружению народа и идею похоронили, вызывав у Бурматова приступ истеричного обличительства.
Ощущение скорого и неминуемого краха не оставляло его последние недели. Владимир Егорович ехал по Москве в мэрию, хмуря глядя за стёкла…Пирогов чего-то ждал. Или самого себя убеждал, что ждёт каких-то судьбоносных перемен. Потому что, говоря по правде, ждать было особенно нечего: никакого «вундерваффе» в его распоряжении не было, ресурсов тоже, надвигалась зима и многомиллионная Москва становилась очевидной могилой и для него, и для его окружения.
Опять всё завязано на Москве! Опять, опять несколько миллионов граждан ставят под угрозу Россию. Как в 1991 году, когда несколько тысяч москвичей добили помиравший Союз, как в 1993 году, когда миллионы москвичей молча глядели, как ельцинские танки разносят последнюю попытку что-то изменить, как во время Кризиса, когда мэрия присягнула на верность миротворческой администрации тогда, когда передовые подразделения НАТО были ещё в двухстах километрах от города.
Мимо пронеслась недостроенная громада сикхского храма, потом опять заколоченные, а местами - сгоревшие или заброшенные и разграбленные здания офисов, ресторанов и магазинов. И руины, руины, руины. Между прочим, поговаривали, что методичное руинирование Москвы - часть большого плана, смысл которого сводился к постепенному превращению Москвы в малопригодный для жизни город и, как следствие, снижение её роли в будущем России. Понятное дело, что никто не выделит средств для восстановления бесчисленных офисных зданий, транспортных развязок и жилых комплексов. «Огородят заборчиками несколько церквушек и Кремль, а остальное постепенно разрушится и будет Москва заштатным городом… Эдакой Тверью или Ростовом Великим», - Пирогов уже даже и не удивлялся, что сам спокойно рассматривает перспективы жизни после того, как…