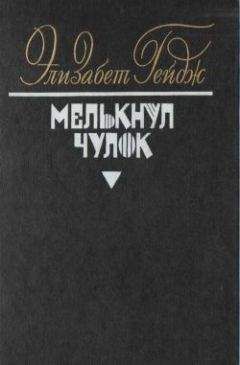Было тихо и необыкновенно грустно. Румата причмокнул и вдруг повторил жест дона Кондора, ткнув себя в сердце большим пальцем боевой перчатки.
Ночь уходила. К проливам тянулись крупные жирные птицы. С окнами и дверьми, закрытыми тяжелыми в железных болтах ставнями, источая зловоние даже в прохладную ночь, Арканар и в эти часы жил своей жизнью. Возникла и исчезла тень человека: кто, зачем?
Румата ехал медленно, бросив повод. Жеребец то шлепал по грязи и глине, то выходил на редкие участки когда-то мощеной мостовой, и тогда копыта начинали цокать. Развилка улицы утыкалась в порт. Между дорогами торчала виселица с помостом, одна петля была занята, две приглашающе свободны. Колченогий полуголый раб со смоляным знаком между лопаток и в деревянной колодке поливал головы повешенных из большого черпака на длинной ручке. За ним ходила женщина. За женщиной ходил ребенок. За ребенком щенок принюхивался к запаху чешуи.
– Веревки скрипят, и птицы не сядут клевать, а с рыбьей чешуей… – сказал Муга, раб Руматы, он тащил кресло. Не благородному же дону разъезжать с мебелью?
– Святой Мика мог бы быть и чуточку подобрей… – Муга засмеялся, во рту у него было всего два зуба, неправдоподобно длинных.
– Зачем? – удивился Румата.
Из темноты вынырнули и исчезли два немыслимых оборванца в тяжелых золотых браслетах и серьгах, остро глянули и исчезли.
Совсем ненадолго открылся порт: полусгнившие причалы, баржи с костерками… Дежурные галеры на рейде фыркнули нефтью, поджигая воду.
– Третий день не впускают суда, – начал было опять Муга, Румата ткнул его в плечо плеткой.
– Мальчиком я мечтал иметь раба и няньку с отрезанными языками, а купил почему-то тебя… Дай мне камень.
Румата пришпорил жеребца и поехал быстрее, чтобы Муга побежал.
На звук копыт тихо приоткрывались тяжелые ставни, и за любопытством обшарпанных припортовых домов Румата ощущал скверный корыстный интерес. На корабельном канате покачивался круглый двойной жестяной портрет. На одной стороне король. На другой – дон Рэба. Румата пронзительно свистнул, запустил в него камнем, точно в край – портрет заскрипел, завертелся, набрал ход в одну сторону, после – в другую.
– Кто кинул камень? – рявкнул Румата тихо закрывающимся ставням. Добавил, как на Земле: – Ну, мертвая, – и похлопал жеребца между ушей.
Румата завернул за угол и, толкнув плечом дверь, вошел в один из притонов. Сзади пыхтел Муга с креслом.
В полутемном зальце, освещенном двумя горящими плоскими посудинами с маслом, дремал за стойкой длинноносый старичок с лицом мумии. Румата примерился уже щелкнуть его в длинный нос, как тот быстро открыл глаза и так же быстро проговорил:
– Что будет угодно благородному дону: мазь, понюшку, девочку?
– Не притворяйся, – удивился Румата. Но старик смотрел мимо.
С пола поднялась густо раскрашенная бабища, поспешно взяла в руки лютню, вывалила груди и уставилась на Румату. Румата достал маленький изящный арбалет, окованный черной медью, и положил, направив в нос старичку.
– Есть мальчик-варвар, совсем без зубов, – безнадежно забормотал старик, – у вас же обет не убивать… – Он облизнулся очень длинным языком.
– Ты видел когда-нибудь человека, который выполнял бы все обеты? – захохотал Румата. – Даже Ката Праведный… Бери кресло, подыханец…
Под терзающие душу звуки лютни они пошли по коридорчику, сырому и низкому, с дверями, занавесками и множеством колокольчиков.
Старик бормотал по ходу, старательно задевал колокольчики головой и ножками кресла.
– Есть нежные свиньи, которых мы ежедневно моем молоком…
Румата больно ударил его сапогом по копчику.
– Есть большая женщина совсем без ног и ее дочка с ногами…
– И старик подыханец, на сладкое… – Румата засмеялся, хотя из-за грязной занавески и был уже слышан чей-то скрипучий голос.
Старик выпустил кресло, оно плюхнулось в воду. Коридор заканчивался ручьем по колено. Румата подхватил кресло и швырнул в тяжелую занавеску, обшитую железными кольцами.
Кресло одиноко влетело в помещение, блестя бронзой и камнями. Там Румата его поднял, пиная шпорами чьи-то ноги, поставил и сел. Людей в барже было много. Они сидели на полу. Говорил один, обвиснув на конторке, с маленькой и узкой, изъеденной морщинами головой и такой же тонкой шеей странно сочетающимися с огромными узловатыми руками и такими же огромными, будто литыми плечами.
Рядом за столом сидел казначей в слюдяных очках с баночкой краски на шее, лицо у него было белое, почти лишенное подбородка, птичье.
Ни полутьма с глазами, ни человек за конторкой не обратили внимания ни на грохнувшийся стул, ни на Румату, ни на Мугу.
– Выстребаны обстряхнутся, – продолжал человек за конторкой, и казначей тут же переложил цветной камушек из одной кучки в другую. – А это двадцать длинных хохорей, что?! – Он поднял маленькие без выражения и от этого абсолютно беспощадные глазки. – Мне показалось, что Пига ловит таракана… Это правда, Пига, сынок?!
– Не ловил я, Вага, – раздался из полутьмы бас. – Как можно?!
Вага покивал, по худеньким морщинистым его щекам потекли слезы. Он вытер их грязным рукавом, из-под которого мелькнула дорогая кольчуга.
– Старею я, – он сморкнулся под конторку, – увидел и забыл, что в этой мерзости томится благородный дон, которому и язык наш мерзкий не знаком, – и Вага, кряхтя, согнулся в поклоне.
– Я знаю все языки, Вага, – Румата ласково засмеялся, – я знаю все языки. Ты говорил на языке ночных воров, неразумные называют его вшивым, но вошь благословил Гаран, она разрешает спать только усталым и продлевает жизнь бодрствующим.
Румата ощущал враждебность полутьмы в тишине и в маленьких иногда вспыхивающих от движения огня глазах. Знал, что будет, – сладкий азарт тащил его, он поежился в духоте, пошевелил плечами, стянул к ушам золотой обруч и «потянул блесну».
– Ты рассуждал о книгочеях, которые отдают все, что у них есть, чтобы вы их спрятали. Орел наш дон Рэба платит вам медные монетки за обратное. Ты же, Вага, велишь брать сперва у первых, потом у второго, что хитро. Денежки – вот они, – Румата кивнул на камушки на столе казначея, – а книгочей у Рэба, – Румата вдруг показал, как дергается покойник в петле, и снова уставился на казначея. – Как он может есть без челюсти, или вы его кормите через задницу? Вага, тебе не следует смотреть мне в глаза. Мое происхождение, то, се…
Откинулась занавеска, на пороге стоял опухший мальчик с черным провалом вместо рта, в полупрозрачном халатике. Повизгивая, он уставился в глаза Руматы.
Румата крутанулся на каблуке.