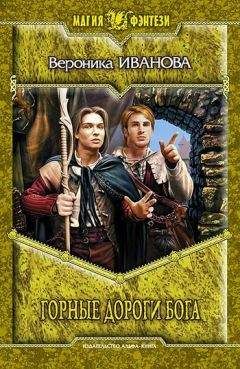на нескончаемый ящик с детскими кубиками, которые кто-то пытался уложить в подобии порядка, но до конца терпения не хватило. Серые, охристые, местами выбеленные коробки домов и пыльные улицы. Почти нет зелени. А вот с балкона на тыльной стороне собора открывался бы совсем другой вид: вид на Вилла Альта, Верхний город.
Изумрудные рощи, дающие спасительную тень и легко ловящие в плен свежий ветер с отрогов гор. Змейки дорог, не проседающих и не стекающих со склонов даже в месяцы долгих дождей. Тишина и спокойствие. Кристально чистый, свободный от гнусных ароматов человеческого присутствия воздух. Рай земной. И на самой кромке рая – статуя. Парная той, с другой стороны континента. Только здешняя дева Мария не простирает руки над подданными Господа, а скрещивает на груди, обещая защиту души каждого из них перед строгим судом своего сына.
– Молчание – знак согласия.
– Согласия с чем?
– С правдой. - Хэнк взял меня за плечо и развернул к себе лицом. – А она состоит в том, что младший брат – лишь ещё один камешек на чаше весов, которая была внизу с самого начала.
Хорошее утешение, да? Отвратительное, как на мой вкус.
– Ты тоже веришь сплетням?
– Я верю тебе.
– А я рассказывал?
– Ни разу.
– Тогда как можно верить?
Ладонь Хэнка легла на грудь. Туда, где билось его сердце.
– Вера не нуждается в знании. Неужели ты этого не чувствуешь?
И пытаться не буду. Я верил. А что толку?
– Не будем продолжать, ладно?
Он немного помолчал, глядя куда-то в сторону. В пространство за моим правым плечом. А потом сменил тему:
– Ты совсем замкнулся в себе. Перестал бывать на людях. Это неправильно.
– А ты не думал, что «люди», в свою очередь, тоже не горят желанием меня видеть? Это раньше мне не было прохода от желающих заручиться хоть какими-нибудь отношениями. А что теперь? Я им больше не нужен. Как не нужен и собственной матери. Они ведь не слепцы и не дураки: давно поняли, кто сколько монет стоит.
– Снова придумываешь?
Если бы! Даже девчонки с курса стали сторониться, хотя, было время… Подбивали клинья, так скажем. Но я всегда был слишком разборчивым. А ведь стоило проявить чуточку беспечности, и одна из них не смогла бы отказать мне в своем обществе. Даже теперь. Поджимала бы губы, злилась, мысленно проклинала, зато была бы рядом. Создавая успокоительную иллюзию благополучия.
– Вспомни, за последний год меня часто звали куда-нибудь?
– Если бы ты хоть раз внимательно посмотрел на себя в зеркало, то понял бы, почему не получал приглашений.
– А что со мной не так?
– Вселенская скорбь на лице, вот что. Как будто тщательно готовишься к похоронам.
Наверное, он прав. Но трудновато играть в радость и счастье, когда…
– Жизнь не заканчивается, Фрэнк. С совершеннолетия все только начинается.
– Тебе легко говорить!
Он не обиделся. И потому, что не умеет, и потому, что на дурака обижаться – себя не уважать, как говорят люди. Да, я знаю, что веду себя глупо. Но все-таки никак не могу думать и чувствовать иначе. Даже в стенах храма.
– Пора идти обратно. А то спустимся, когда все уже разойдутся.
Это верно. Ждать такси на солнцепеке – не самое приятное занятие. А если не успею к торжественному отъезду лимузина, придется добираться домой самостоятельно: мама ни одной лишней минуты не проведет в Нижнем городе без особой надобности.
– И помните, больший из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится!
Последние слова проповеди долетели до нас как раз к окончанию лестницы. Хэнк тут же ускорил шаги, почти полетел, торопясь к своим многочисленным сестрам. Не прощаясь. Наверное, думал, что я последую его примеру добропорядочного сына.
Была б моя воля, до вечера сидел бы на галерее. Но пока остается хоть призрачная надежда, стоит смирить гордыню, а с ней и прочее, что клокочет в груди. И видимо, делает это так громко, что слышно всем вокруг. Отцу Мигелю, к примеру.
– Ты слушал проповедь, сын мой?
Он стоял у выхода с лестницы, прямо за дверцей. Усталый, но воодушевленный.
– А надо было?
– Дерзость хороша во всем, кроме общения с Господом.
– Мы вполне довольны друг другом.
Глаза падре, преисполненные сочувствием и состраданием, задержавшимися с мессы, печально сощурились.
– Я бы попросил тебя не богохульствовать, но похоже, Он и впрямь не против. И все же, не забывай: у всякого терпения есть предел.
– У божьего тоже?
– Господь велик в своей милости и всепрощающ. Он смотрит на всех нас, выделяя каждого. А вот мы чаще желаем видеть только самих себя… Вокруг тебя много людей, Франсуа. Разных людей. Есть хорошие, есть плохие, и порой их невозможно отличить друг от друга. Остерегись делать неправильный выбор, вот и все, о чем я тебя прошу.
И он туда же! Мамочка постаралась, не иначе. Представляю, чего она наговорила священнику, и конечно же, исключительно для моего блага…
– Не хочешь обсудить это?
Многозначительный кивок в сторону исповедальни. Кивок, от которого меня чуть не передернуло.
Я так и не побывал там. Ни разу. Однажды залез только, чтобы посмотреть, как резной шкаф выглядит изнутри. Но и тогда, получив сквозь плетеное окошко ласковое предложение поговорить, отказался наотрез.
– Я уже обсудил. С Ним.
– Не нужно пренебрегать человеческим участием, сын мой. Господь прощает, но понять может только человек.
Спасибо, у меня без вас есть такой на примете. Человек. Друг. И с ним я тоже уже побеседовал.
– Вы очень заботливы, падре.
– Я все-таки надеюсь на разговор, Франсуа. Он не будет лишним. - Мозолистая ладонь взъерошила мои волосы. – А пока ступай. С богом.
Каждое прибытие сенатора в семейную резиденцию казалось мне неожиданным примерно лет до пятнадцати. Потом выяснилось, что вполне достаточно немного более напряженного слуха, капли внимания к мелочам и простейшего расчета, основанного на здравом смысле и хорошей памяти, чтобы предугадать, когда Джозеф Генри Линкольн снова переступит порог своего дома.
Ну да, я ждал его. Ждал всякий раз. Вернее, не столько его, сколько момента, когда высокий, статный, седовласый мужчина войдет в мою комнату и произнесет несколько драгоценных слов. Например, назовет меня сыном.
– Я дома!
Кто бы сомневался.
– Папа, папа приехал!
Детская непосредственность в самом примитивном своем проявлении. Сейчас Генри скатится по ступенькам в холл, прямо в объятия сенатора, потом взлетит, замирая от восторга на руках-качелях, раскраснеется, засияет, заслужит положенную порцию ласки и