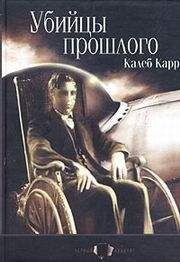Пока мы летели через Балканы на север в сторону Польши, ситуация делалась все опаснее и неустойчивее. Нам следовало уворачиваться от самолетов союзников, от «Б-2», от ракет и от огня пушек, — все это было чересчур даже для Слейтона, и управление взяла на себя Лариса. Несмотря на мои чувства и абсолютное доверие Ларисе, замена эта меня не успокоила, поскольку Слейтон, как я знал точно, никогда не позволил бы гневу взять над собой верх, а Лариса? Как вырвалось когда-то у Малкольма, когда он рассказывал мне о смерти Джона Прайса: "Ну, это же Лариса…"
Не думаю, что в этот миг все остальные почувствовали себя в безопасности — разве что Малкольм; и именно Малкольм первым заметил драматическое изменение курса "Б-2".
— На восток, — произнес он так тихо, что я едва расслышал его сквозь гул самолетов и взрывы. — На восток, — повторил он более настойчиво. — Он повернул на восток!
Полковник Слейтон склонился над одним из навигационных мониторов, и его голос сделался, к моему вящему испугу, еще более сдержанным.
— Если он не сменит курс, то выйдет на прямую, соединяющую густозаселенные области: Белосток, Минск, Смоленск… — Он поднял глаза и взглянул на «Б-2», страшась назвать последнее звено этой цепи.
— Москва, — медленно объявил Малкольм. Его лицо стало пепельно-серым, а слова — скупыми, но решительными: — Лариса, Гидеон — оба в башню. — Ларисе не нужно было повторять дважды. Она вскочила и за руку потащила меня к двери. — Подождем, пока он пройдет Смоленск, — крикнул Малкольм нам вслед. — Если смены курса не будет…
Лариса обернулась.
— Он уже слишком близко. Разве не так, брат? На этой скорости…
— На этой скорости, сестричка, твоей руке лучше бы не дрогнуть.
Остаток этой части моей истории будет ужасающе прост и лаконичен, словно бесплодная пустыня. Я бы с радостью приукрасил ее, если бы это могло повлиять на ее исход. Лариса и я едва ли обменялись словом за время на посту в башне. В следующие три четверти часа, пока под нами проносились неопознанные восточная Польша и западная Россия, в прозрачной полусфере царило молчание, которое не прерывали даже звуки пушечного огня и ракетных взрывов, так как самолеты союзников отказались от преследования задолго до того, как мы вступили в непредсказуемое воздушное пространство непредсказуемой рухнувшей империи — России. Я не знаю, о чем думала тогда Лариса, и не догадался спросить ее после; что до меня, то я раздумывал о том, что же творится в ее голове, когда она готовится оборвать чью-то жизнь. Это казалось неизбежным: Эшкол вел себя так, что у нас не было иного выбора, кроме как прикончить его. Нам оставалось лишь надеяться, что от падения самолета пострадает не слишком много людей, размышлял я в тот миг.
Мне и в голову не приходило, что корабль Эшкола может просто-напросто исчезнуть из виду, однако где-то между Минском и Смоленском так и случилось. Ни на моих приборах, ни на экранах систем слежения, как вскоре уведомил нас Малкольм, не было и признаков «Б-2». Я пребывал в глубоком замешательстве до тех пор, пока Лариса не предложила простейшее из возможных объяснений: самолет Эшкола разбился. Мое настроение резко скакнуло вверх при этой мысли, но я принудил себя проявить скепсис. Разве мы не увидели бы пожара? Разве не заметили бы падения? Разве Эшкол, в конце концов, не катапультировался бы в случае неминуемой аварии? Не обязательно, ответила Лариса, самолеты, бывает, разбиваются и без видимых последствий вроде сильного взрыва, и порой так внезапно, что заметить его падение было бы весьма сомнительно. Условия ночного полета порой сбивают с толку настолько, что пилот может до самого конца так и не узнать о том, что обречен.
В любом случае, следовало срочно повторно проверить и область предполагаемого падения, и настройки бортовых систем, так что мы с Ларисой вернулись из башни в носовую палубу. Но никто из нас так и не смог обнаружить ни следов аварии, ни признаков сбоя в работе устройств. Мы предположили, что самолет Эшкола потерпел крушение в каком-нибудь лесу или в поле, и обломки можно будет обнаружить лишь после восхода солнца.
Откуда нам было знать? Что могло бы заставить нас вновь прослушать Малайзию и узнать о похищении чего-то большего, чем «Б-2»? И даже если бы мы каким-то чудом узнали, что на этом самом «Б-2» была установлена краденая американская система «стелс», настолько новая и засекреченная, что о ее похищении даже в самой Америке была осведомлена лишь горсточка людей, — что могли бы мы предпринять, чтобы обойти ее защиту? Все эти вопросы до ужаса спорны. В ту же ночь — и во все последующие ночи — властвовал лишь один несомненный факт.
В тот самый миг, когда все мы почти поверили в удачу и в то, что счастье изменило Эшколу, горизонт на северо-востоке вдруг озарился красочным, ослепительным светом. Ничто не мешало обзору, и внезапно возникшее зарево приковало наше внимание; понимая ужасную правду, никто из нас не произнес ни слова на протяжении неотвратимой развязки.
Ядерный гриб, налитый всеми ужасными цветами, высвобожденными взрывом, стал медленно подниматься над тем, что недавно было Москвой.
Кошмарное облако ядерного взрыва, парализовавшее всех, стало развеиваться задолго до того, как кто-либо из нас смог вымолвить хоть слово. Первым заговорил Эли, задав вопрос, волновавший сейчас каждого: как смог Эшкол уйти от нас? Ответа, конечно же, не было ни у кого, и вопрос обвинением, повис в воздухе на все то время, что заняло возвращение на Сент-Кильду. Лишь там полковник Слейтон, после многих часов, проведенных в диспетчерской, сможет найти объяснение. Но тогда мы все лишь покачали головами и продолжали молча смотреть на происходящее, пребывая в замешательстве, вызванном не только наблюдаемой трагедией, но и тем, что не знали, как быть дальше.
Из этого чудовищного окаменения нас вывел, разумеется, Малкольм. Голосом, схожим со скрипом мельничных жерновов, что так отвечал смертной бледности его лица, он отдал Ларисе приказ направить корабль в пылающий город, что исторгло у нас вздох недоверчивого изумления. Видя, до чего Малкольм опустошен, Лариса мягко намекнула, что это может быть опасным, но гневный и резкий ответ ее брата гласил, что на некоторое время корабль защитит нас от радиации и что он, как и мы все, должен видеть разрушения собственными глазами. Без дальнейших пререканий Лариса приняла управление, и мы полетели навстречу крушению иллюзий, да такому, какое за всю мировую историю испытали всего несколько человек.
Не существует слов, чтобы описать все это; во всяком случае, мне таких слов не найти. Может, описать, сколько теней — отпечатков тел — я обнаружил в том, что обычно называют «серым» пеплом? Или бесконечное множество оттенков того, что для самоуспокоения именуют "выжженной землей? Что может передать тошнотворный вид тысяч испепеленных и искалеченных человеческих тел, живых и мертвых, что избежали полного испарения? Но отвернуться я не мог. Когда-то я слышал, что разрушение противоестественным, но неодолимым образом притягивает взор, но не ожидал, что испытаю это сам при виде кошмарной панорамы.