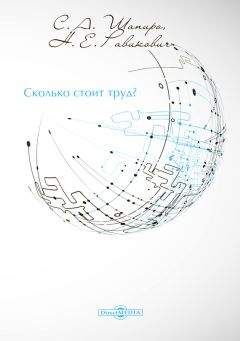6. 2000. Джейн
Если бы кто-то взялся следить за мной в последние годы, если бы кто-то заметил, чем сопровождаются мои появления в тех или иных местах, он ни за что в жизни не сел бы в один самолет со мной. Он бы остался у стойки регистрации, с облегчением пропуская рейс, и сожалел бы лишь о том, что не смог эвакуировать всех пассажиров воздушного лайнера. А, может, и не сожалел бы: за прошедшие годы я оказывалась свидетельницей сотен масштабных трагедий и слишком часто видела, как торжествует надо всеми соображениями морали и гражданской сознательности инстинкт самосохранения.
Никому не было до меня дела. Пассажиры Боинга убирали в сумки журналы, поднимали спинки сидений, пристегивались ремнями, словом, готовились к посадке. Никто из них не волновался — ведь никто не знал, что я, словно черная предвестница беды, неизменно оказываюсь там, где вот-вот случится страшная катастрофа.
Я сидела у иллюминатора, глядя на ковер трепещущих огней большого города подо мной и внимательно прислушивалась к себе. Я что-то чувствовала. Давно позабыв, что такое эмоции, я не могла вспомнить, как называется испытываемое мной ощущение.
"Надежда", — пришло откуда-то странное слово, в первый миг показавшееся мне бессмысленным набором звуков.
— Hope, — тихо повторила я это слово вслух на родном языке. — Hope, — звонкой льдинкой, твердым леденцом перекатилось оно у меня во рту. — На-деж-да, — попробовала я на выученном за последние годы русском. — На-деж-да, — снова повторила я, потому что тягучее, словно сладкая карамель, слово чужого языка понравилось мне больше.
Надежда.
На то, что долгие годы бесплодных изнурительных поисков, наконец-то, закончатся.
На то, что я вот-вот увижу его в толпе. Что он сразу узнает, подойдет ко мне, улыбнется и скажет — не слабым, искаженным вибрирующим гулом, а живым, настоящим голосом: "Костя. Россия".
Я расслышала эти слова шесть лет назад. Тот день я помню до мельчайших деталей. Помню, в отличие от многих других дней — слишком много катастроф и трагедий я увидела, и картины смертей и страданий давно перемешались, потеряли отличительные черты, и я уже не могла сказать, где именно проходили землетрясения и падения самолетов, наводнения и взрывы на шахтах, цунами и массовые восстания.
Не знаю наверняка, почему мне запомнился именно тот день. Может быть, потому, что картина избиения тысяч тутси и хуту, бегущих из оставленной бельгийскими миротворцами школы Дон Боско в Кигали, своей звериной безжалостностью и масштабностью во много раз превосходила все, что мне приходилось видеть. Может быть, потому, что именно тогда, уже давно разучившись чувствовать, я впервые за долгие годы испытала почти настоящий шок. А, может быть, потому, что именно тогда я впервые расслышала в нараставшем в ушах "морском" шуме слова с точностью до звука и разобрала, что они значат.
Он зовет меня. Он слышит меня. Он есть!
Еще один не такой, как все остальные люди.
Еще один такой же, как я.
Тогда, среди страдальческих воплей умирающих под лезвиями мачете тутси я испытала что-то очень похожее на облегчение.
С той поры, в перерывах между посещением мест стихийных бедствий и войн, я раз за разом бросалась туда, куда указывал его зов — Лима, Джайпур, Осака… Я не знала, как буду искать его в огромных, бескрайних землях или в многомиллионных городах, но не ехать не могла. На это меня толкала сила не менее властная, чем та, что вела к местам, где сталкивались поезда, взрывались торговые центры и тонули корабли. Только эта сила, в отличие от той, другой, исходила от меня самой. После долгих лет стороннего, безразличного наблюдения за чужими трагедиями, в моей пустой жизни появился смысл. И этим смыслом стал поиск.
Я уже поняла, что шум и шепот я слышу только тогда, когда мой организм напряжен до предела. И я сознательно бросалась в ситуации, сопряженные с максимальным риском для жизни. Я прыгала с парашютом в грозу, седлала лавины на сноуборде и считала бури лучшим временем для серфинга. Я занималась альпинизмом без страховки, сэндбордингом во время песчаных бурь, рафтингом, когда таяли горные реки и кайтингом во время торнадо. Что угодно, лишь бы услышать его.
Срабатывало — я слышала. Да, за то, чтобы убедиться, что он все еще есть, что он все еще зовет меня, я нередко расплачивалась переломанными костями, гематомами и сотрясениями мозга. Это не имело значения — боли я почти не чувствовала, а раны затягивались в кратчайшие сроки.
Я слушала, я разбирала его голос, учила русский язык и при первой же возможности летела туда, откуда приходил последний зов.
Найти его. Ничего больше меня не волновало.
Не волновало, что врачи разводили руками и с виноватым видом сообщали: "Мы не знаем причину. С вами все в полном порядке… Э-э… не считая того, что вы не стареете. Сколько вам? Сорок? А организм двадцатилетний. И ваши регенерирующие способности просто феноменальны… Но это же хорошо?.."
Не волновало, что пять лет назад мать умерла от рака, и год спустя скончался от инфаркта отец.
Не волновало, что Лиам, не выдержав моих, как он выражался, "безумств", давно ушел от меня: его присутствие все равно не вызывало во мне никаких желаний и не спасало от одиночества — одиночества существа, разительно отличающегося от всех остальных.
Главной и единственной целью было отыскать Костю. Мне казалось, что, найдя его, я найду себя. Ту самую, которую я потеряла на долгом пути моей странной жизни.
Жизни ли?
Я не гадала, как он выглядит, как говорит и как двигается, о чем думает и как смеется, что скажет в момент нашей встречи и что будет потом. Все те вещи, которые когда-то казались мне такими важными при выборе мужчины, перестали иметь значение. Они имеют значение только тогда, когда женщина не знает наверняка, что этот мужчина — тот самый. Единственный.
А я знала.
Только после долгих лет упорных поисков я его так и не нашла…
И в какой-то момент поняла, что в опустевшей палитре моих эмоций, оказывается, еще остались краски отчаяния. Слишком людны города. Слишком бескрайние земли. Мне не найти его.
Я была почти готова сдаться. От этого меня оберегло очередное несчастье. Страшная трагедия, унесшая жизни полутора сотен людей подарила мне еще один шанс. Полтора месяца назад, горя заживо в поезде-финикулере австрийского горнолыжного курорта Капрун, я расслышала те слова, которые положили мне на язык твердый леденец "hope", тягучую карамель "надежда":
— Санкт-Петербург. Пулково… Пулково…
Я искал её десять лет. Десять. Три тысячи шестьсот пятьдесят два дня с тех пор, как узнал её имя. И каждый из этих дней я просыпался и говорил себе: "Сегодня я её найду". И каждый раз проваливался в сон, изо всех сил заставляя себя верить, что найду завтра.