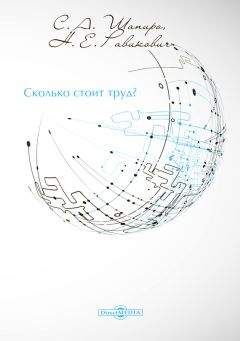Она прилетела с Нью-Йоркским рейсом. Она шла ко мне через людской поток, закусив губу и заворожено глядя на плакат в моей руке. Я смотрел на неё и не мог сдвинуться с места, я будто прирос к полу. Я не верил. Я уже знал, уже понимал, что это она. Но не верил. Не верил, что на земле бывает такое счастье. Она остановилась, дамская сумочка, скользнув по её руке, упала на пол.
Я рванулся вперёд. Расталкивая пассажиров, под ругань и мат я бросился к ней, оторвал от пола и поднял на руки. Время замерло, мы смотрели друг другу в глаза.
— Kostya, — прошептала она. — Is it you, Kostya?
Я не ответил. Прижимая её к себе, я кинулся к выходу. Перепрыгивая через коробки и чемоданы, вдоль образованного опешившими людьми прохода я добрался до дверей и вывалился наружу.
— Такси! — заорал я так, что окружающие шарахнулись в стороны. — Такси, в бога душу мать!
Там, в машине, я впервые её поцеловал. Это была она. Робот номер два. Сменная кинокамера. Моя женщина. Моя единственная. Моя Джейн.
Эта идея принадлежала Косте. Не мне.
Помню, тогда я изводила себя вопросами, на которые не было ответов. Зачем они собирают информацию о нас? Что сделают с нами, когда получат достаточно сведений? Выбросят, как ненужное оборудование? Как это будет? Мы за один день состаримся и умрем?
Меня интересовала только наша судьба. Костя смотрел гораздо дальше. Даже тогда, когда в нас осталось мало человеческого, разница между мышлением мужчины и женщины давала о себе знать.
— Джейн, ты хоть понимаешь, как легко в нашем мире запустить катастрофу едва не планетарного масштаба?
Да, я понимала. Простое механическое действие: надавить на курок, щелкнуть выключателем, нажать на кнопку… Мы оба осознавали, что в один прекрасный день можем получить приказ перейти от наблюдений к действиям. Это сводило Костю с ума. И хотя я чувствовала его, как никого на свете — единственное подобное мне существо! — до конца постигнуть причин его отчаяния я не могла. Понятия "смертельная угроза для планеты" и "долг перед человечеством" не находили во мне никакого отклика… Сейчас-то я понимаю — просто в Косте еще довольно сильно было человеческое начало, и он не хотел его отпускать.
Не хотел отпускать в себе — и старался удержать во мне.
— Любой прибор, даже самый прочный, можно сломать. Надо только знать как, — продолжал он, и его глаза были полны решимости.
— Знаешь, Костя, если им понадобится, они ведь найдут и других исполнителей.
— Но если мир и полетит к чертям, по крайней мере, его туда отправят не моей рукой! — Костя восклицал так экспрессивно, что, казалось, зажигал меня своей энергией.
В такие минуты я забывала, что человеческие переживания и мысли давно стали мне чужды; я почти чувствовала и почти разделяла то же, что и он.
Почти.
Другая же часть меня самой — холодная, отстраненная, рациональная — бесстрастно констатировала про себя их ошибку: они не должны были позволять нам встретиться. Костя не только упорно держался за человеческое в себе — он удерживал его и во мне. Без него я бы давно уже забыла о том, что это такое — чувствовать. Но когда он был рядом, я отчетливо понимала, что, хорошо постаравшись над выкорчевыванием из нас всех человеческих чувств, они не смогли убить до конца самое сильное. То, которое из века в век люди тщетно пытаются выразить словами, но так и не находят верных и правильных, кроме одного — самого избитого и самого простого…
Костин план был незатейлив — уничтожить себя прежде, чем они решат сотворить что-то непоправимое нашими руками. И "Гюрза", которую он однажды принес домой, была самой слабой частью этого плана. Сработает ли? Ведь то, что смертельно для других, причиняет нам лишь временное неудобство. Мы только предполагали, что наши модифицированные организмы не смогут справиться с восемнадцатью пулями, выпущенными в голову — в упор…
— Обещай мне… — Костя брал меня за руки, глядя в глаза одновременно просяще и решительно, и в такие минуты я снова ощущала себя человеком. И мне это не нравилось — потому что я испытывала почти физическую боль. Но все-таки отвечала:
— Обещаю.
А про себя думала — как глупо противиться тому, кто держит в своих руках пульт управления тобой.
Мы оба задумывались над тем, что делать в случае провала Костиного плана. Если и восемнадцать пуль в голову не смогут нас уничтожить, то что же сможет?
Впрочем, до этого до сих пор не дошло. Потому что возникла другая проблема. Почти непреодолимая.
Как можно всадить восемнадцать пуль в голову тому, кого любишь?..
Мы все же попытались. Костя долго вертел "Гюрзу" в руках, нервно сжимал рукоять — но так и не нацелил ее на меня. Моей решимости хватило на то, чтобы наставить "Гюрзу" на Костю. После чего я бессильно опустила руку. Я не могла выстрелить. В кого угодно — только не в него. Не в единственное родное мне существо.
Хорошо, может быть, не единственное — ведь были еще они, и я все сильнее осознавала свою принадлежность к ним. Но они были далеко, а Костя — рядом. И он мне был ближе, чем все они вместе взятые. Потому что он вернул смысл моему бессмысленному существованию.
И потому что мы с ним — люди. Пусть не такие, как все. Пусть почти потерявшие большинство человеческих мыслей и переживаний, управляемые неведомой силой извне, наделенные неистощимой энергией, феноменальным здоровьем, и, наверное, бессмертием. Все равно мы — люди.
Или уже нет?..
На вторую попытку мы решались долго и мучительно, и сейчас, держа в руках "Гюрзу", я понимаю, что все бесполезно — я и в этот раз не выстрелю.
Но сегодня меня это радует. Потому что даёт ответ на вопрос, который с недавних пор вытеснил все остальные и стал для меня самым главным — люди мы или уже нет?
Мы — люди.
Люди — пока не можем нажать на курок. Потому что от этого меня с Костей удерживает единственное человеческое чувство, которое они так и не смогли в нас уничтожить.
Самое сильное.
То, которое из века в век люди тщетно пытаются выразить словами, но так и не находят верных и правильных, кроме одного — самого избитого и самого простого…