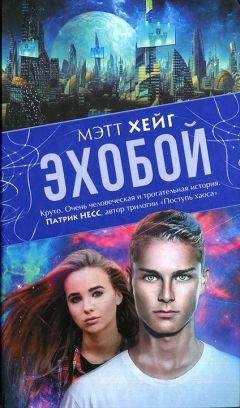Боль была невыносимой. Но я представил себе радость, такую же сильную, как эта боль.
— Нет, — удалось выговорить мне. — Боли нет, господин.
Луис отошел и подозвал одного из роботов, чтобы он снова поставил меня в строй. Он был раздосадован и, может быть, немного зол. Он догадывался. Он знал, что я другой. Но я твердо решил не давать ему никаких доказательств. Он кивнул, словно в ответ своим мыслям.
— На свете есть два вида боли, — сказал он и показал на свою керамическую глазную камеру. — Одну из них видно. Но есть и другая боль, Сто тринадцатый, более глубокая. Давай, подойди поближе к перилам. Я хочу быть уверен, что тебе хорошо видно, потому что там — твое будущее.
Он рассмеялся и подал сигнал роботу-охраннику. Тот высоко поднял над головой смирившегося со всем происходящим Пятнадцатого. Луис обратился ко мне:
— А сейчас, если ты хотя бы пошевелишься, станешь десертом. Они даже не подавятся. Эти тигры не видят разницы между Эхо и человеком… Мясо — это всегда мясо.
Охранник крепко держал Пятнадцатого, но ему все-таки удалось повернуть ко мне голову:
— Пообещай мне, что не позволишь уничтожить себя из-за меня.
Я видел в нем что-то такое… Да, он был типовым Эхо. Но Луис прав: бывают моменты, когда машина становится чем-то большим. Скорее всего, для Пятнадцатого этот момент еще не наступил, но он обязательно наступит, и тогда люди попадут в большую беду.
Вдалеке виднелась вращающаяся сфера. Голубой замок с тремя башням и надпись под ним. Сфера крутилась, крутилась и крутилась.
Касл, Касл, Касл…
Луис прошептал мне на ухо:
— Попрощайся со своим новым лучшим другом.
Я попытался разжать руки робота, но ничего не вышло. Я не мог ничего сделать, и Пятнадцатого швырнули в яму с тиграми, где на него набросились голодные хищники, которые вымерли шестьдесят лет назад.
— Смотри! — приказал Луис. — Смотри! Смотри! И я смотрел. Смотрел, как тело Эхо разрывают на куски. Я видел кровь, плоть и кости. Всю нашу созданную жизнь. Я продолжал повторять про себя, что Пятнадцатый не чувствует боли. Но мне было больно. И мне приходилось стоять там и скрывать свою боль. Я думал об Одри.
Но, несмотря на все мои старания, я почувствовал, как что-то покатилось вниз по моей щеке. Слеза, которой не могло быть, и я вытер ее, надеясь, что Луис ничего не заметил.
Я узнал новое чувство.
И это была ненависть.
В самые черные моменты я клялся себе, что ни к одному из них у меня не будет ни сострадания, ни жалости. Только ненависть, потому что ненависть — самое безопасное чувство.
Вот в какой переплет я попал. Не человек и не машина, я был чудовищно одинок в этом мире. Лучше бы меня никогда не создавали. Я не хотел существовать, но и умирать тоже не хотел. По крайней мере, не так, как погиб Пятнадцатый. В этом вся проблема с ненавистью. Она всегда связана со страхом. Она вырастает из страха — страха потери, страха боли, страха небытия.
Но я ненавидел не только Луиса.
Луис мне казался просто жалким. Ему нравилось издеваться. Он был ущербным человеком и стоял на низшей ступени общества. Единственным способом самоутвердиться для него было избивать тех, кто находился еще ниже или каким-то образом от него зависел — Эхо, животных и неандертальцев. Избивать, издеваться, держать в черном теле.
В этом не было ничего хорошего, но винить во всем одного только Луиса было неправильно.
Мистера Касла — вот кого я обвинял. Если бы не он. Зоны Возрождения и Луиса никогда бы не было. Если бы не он, Розелле не пришлось бы изменять программу Алиссы. Если бы не он, родители Одри были бы живы. Если бы не он, я бы никогда не существовал, как сильно бы Розелла ни хотела меня создать. И я не хотел жить, не хотел испытывать боль бытия, которая неведома Эхо. Я не хотел чувствовать вину за то, что оставил Алиссу в живых — ведь я мог просто выполнить приказ и уничтожить ее.
Я был взбешен. Зачем Розелла добавила в раствор волосы своего умершего сына? Если бы она этого не сделала, я бы не тонул сейчас в эмоциях. В переживаниях. В чувстве вины.
Пятнадцатый умер. Я был здесь ни при чем, но чувствовал себя виновным в его гибели. (Почему я считал себя виноватым? И какой в этом смысл? Ведь Пятнадцатый — просто машина.) Одри могла быть уже мертва. Если ее не убили протестующие, то это сделал мистер Касл. Ведь он приказал уничтожить ее родителей, и от самой Одри тоже хотел избавиться.
Она поцеловала меня. Я помнил этот поцелуй. Может, это был сон? Не знаю. Но этот сон вернул меня к жизни. Поцелуй длился всего секунду. С точки зрения логики он ничего не значил. Просто ее губы на мгновение коснулись моих. Но уже давно научно доказано, что то, что мы считаем слишком маленьким или коротким, на самом деле таковым не является. Вселенная была создана меньше чем за секунду. В обычной песчинке 78 000 000 000 000 000 000 атомов. А один волосок может заставить Эхо почувствовать себя человеком. Так откуда же знать, сколько всего заключено в одном поцелуе?
Мне нужно снова ее увидеть. Если ты однажды узнал, что такое любовь или даже слабая надежда на любовь, это невозможно забыть. В этом, наверное, и заключается вся суть любви. В невозможности сказать «прощай».
И все же я должен это сделать.
Я подошел к окну, пока другие Эхо подзаряжались.
Посмотрел наверх, на Луну и Новую Надежду, бросающую отсвет на Землю. Вспомнил, как Пятнадцатый мечтал выбраться отсюда. Вспомнил, как его рвали тигры. По крайней мере, он не чувствовал боли. А я точно знал: если я стану едой для тигров, мне будет невыносимо больно. Я ненавидел боль. Я вспомнил, как мучился в операционной капсуле.
Мистер Касл думал, что отнял у меня чувства и превратил в обычную машину. Сначала я и сам так думал. Но сейчас я был уверен, что у него ничего не вышло. Может быть, однажды познав страх, любовь и красоту, ты никогда их не забудешь.
Я подумал об игуанах, домашних животных Розеллы. Я вспомнил об их способности отращивать новый хвост, если старый отпадал.
Однажды, когда мы говорили о правительстве, Эрнесто сказал, что они могут ослабить разум, но не сломать душу.
Может быть, в этом все дело.
Может быть, у меня есть душа. И она похожа на хвост игуаны — ее невозможно уничтожить, она всегда отрастает снова.
Тогда мне хотелось, чтобы операция прошла успешно. Хотелось ничего не чувствовать — ни грусти, ни радости. Боль и потеря казались слишком высокой платой за жизнь и любовь.
Я вспомнил последнее предупреждение Пятнадцатого: «Не дай себя убить…»