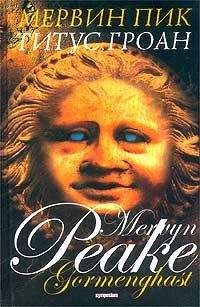И Титус поднял с дороги камень.
– Щенок! – помолчав, ответил нищий. – Думаешь, я могу расточить мое богатство? Монеты слишком велики, пес ты этакий, чтобы выйти из меня с другой стороны. Слишком малы, чтобы меня убить. И слишком тяжелы, чтобы потеряться! Я – нищий.
– Ты карикатура человека, – сказал Титус, – и когда ты умрешь, земле станет легче дышать.
Он уронил поднятый в гневе тяжелый камень и, не оглядываясь, пошел по правому ответвлению тракта и аллея кедров единым вдохом втянула его в себя, как комара.
Дерево за деревом проплывали мимо в такт его шагам. Он был счастлив в этом кедровом сумраке. Счастлив в прохладе зеленого тоннеля. Счастлив в рискованности этого мира. Счастлив, вспоминая детство и то, как он продирался сквозь плющ. Счастлив, несмотря на соглядатаев в шлемах, хоть те и пробуждали в нем темную тревогу.
Он так уже долго жил единственно изворотливостью ума, что сильно отличался теперь от юноши, ускакавшего из дома.
Казалось, аллея, которой шел Титус, бесконечна, но вдруг, нежданно-негаданно последний из кедров остался у него за спиной, словно придержанный чьей-то рукой, и просторное небо взглянуло на Титуса сверху вниз, и он увидел впереди первое здание.
Титус слышал о них, но не ожидал ничего, настолько несхожего со строениями, которые знал, не говоря уж – с архитектурой Горменгаста.
Первым привлекло его взгляд бледно-зеленое сооружение, чрезвычайно изящное, но по устройству своему такое простое, что глазам Титуса не за что было зацепиться на гладкой его поверхности.
Близ этого сооружения возвышался медный купол, подобие иглу, но высотой в девяносто футов и с конической, словно бы пауком сплетенной мачтой, сверкавшей под солнцем. На салинге ее пристроилась корявая ворона, время от времени осыпавшая купол пометом.
Титус, нахмурясь, присел на обочине. Он родился и вырос там, где считалось, что всякое здание по природе своей дряхло, где любое из них ветшало, разваливаясь, и было таким всегда. Белая пыль, лениво ложившаяся между зияющими кирпичами; червь, протачивающий дерево. Сорная трава, вытесняющая камень; ржа и плесень; осыпающаяся патина; блекнущие тени; красота распада.
Неспособный долго сидеть на месте, ибо любопытство превозмогало в нем потребность в отдыхе, Титус поднялся на ноги и, дивясь, что вокруг нет ни единой души, направился к тому, что должно было лежать за куполом, – вереница зданий изгибалась, словно заслоняя некий огромный круг или арену. И действительно, что-то в этом роде открылось Титусу, когда он обогнул купол и в изумлении замер, настолько этот круг был огромным. Огромным, как серая пустыня, мраморная поверхность которой источала безрадостный, тусклый свет. Единственное, что нарушало, если так можно выразиться, ее пустоту, – отражения обступавших пустыню зданий.
Самые дальние из них, иными словами, те, что тянулись пышной дугой с противоположного края арены, представлялись Титусу не крупнее почтовых марок, колючек, ногтей, желудей или мелких кристаллов; исключение составляла великанская, возносящаяся над всеми прочими постройка с чем-то подобным лазурному спичечному коробку на верхушке.
Попади Титус в мир, кишащий драконами, он вряд ли изумился б сильнее, чем при виде этих фантазий из стекла и металла, – он не раз и не два оборачивался, как будто существовала возможность уловить последний отблеск оставленного им позади кривого, убогого города, однако владения Мордлюка скрыла складка холмов, а развалины Горменгаста затерялись в лабиринте пространства и времени.
И все же, хоть глаза Титуса сияли от волнения, порожденного сделанным открытием, негодование томило его – негодование на то, что это чужое царство способно существовать в мире, не ведающем, похоже, о его доме, в мире, который казался, по правде сказать, более чем самостоятельным. Эта страна ничего никогда не слышала ни о Фуксии, ни о ее смерти, ни о ее отце, меланхолическом графе, ни о графине, чей странный переливистый свист привлекает к ней птиц из далеких лесов.
Были они современниками, существовали в одном и том же времени? Эти миры, эти царства – могли оба они быть правдой? И ни одного моста между ними? Ни сопредельных земель? То же ли солнце сияло над обоими? Одни ли и те же созвездия?
Когда на эти хрустальные здания налетает гроза, когда чернеют от дождя небеса, что происходит в Горменгасте? Сухо ли там? И когда гром раскатывается по древнему дому Титуса, неужто эхо этого грома не долетает сюда?
А реки? И они тоже раздельны? И даже ни единый проток не торит пути в другой мир?
Где пролегают длинные горизонты? Где мреют границы? О страшное разделение! Далекое и близкое. Ночь и день. «Да» и «нет».
ГОЛОС: Ах, Титус, неужели не можешь ты вспомнить?
ТИТУС: Я могу вспомнить все, кроме…
ГОЛОС: Кроме?..
ТИТУС: Кроме пути.
ГОЛОС: Пути куда?
ТИТУС: Пути домой.
ГОЛОС: Домой?
ТИТУС: Домой. Туда, где копятся пыль и легенды. Я потерял направление.
ГОЛОС: У тебя есть солнце и Полярная звезда.
ТИТУС: Да, но то же ли тут солнце? И те же ли звезды, что в Горменгасте?
Титус поднял глаза и удивился, поняв, что никого рядом с ним нет. Пот холодил ладони, страх затеряться, лишиться каких-либо доказательств собственной подлинности, внезапно пронзил его, точно кинжал.
Он оглядел лежащую вокруг чистую, чужую землю и тут что-то единым махом прорезало небо. Единственный звук, издаваемый этим чем-то, походил на тот, с каким палец скользит по аспидной доске, хоть и казалось, будто оно пронеслось всего в волоске от Титуса.
Теперь оно уже опускалось, точно алая искра, на дальнем краю мраморной пустоши, там, где посверкивали самые далекие дворцы. Оно казалось лишенным крыльев, но исполненным невероятной воли и красоты, и пока Титус вглядывался в здание, под тенью которого оно залегло, ему почудилось, будто он видит не одно это устройство, но целый их рой.
Да так оно и было. Перед ним маячил не только флот рыбовидных, игловидных, ножевидных, акуловидных, лучиновидных механизмов, но и множество наземных машин конструкции самой удивительной.
Серый мрамор лежал перед Титусом, тысячи акров мрамора, по краям которого теснились отражения дворцов.
Пересекать его на виду у всех отдаленных окон, террас и разбитых на крышах садов значило бы предстать перед ними гордецом, нагим и заслуживающим порицания. Но именно это Титус и сделал, и пока он шел, какой-то зеленый дротик сорвался с дальнего края арены и понесся к нему, скользя по мрамору травянистого цвета брюшком, и через миг уже подлетел вплотную, но лишь для того, чтобы произвести вираж, со свистом унестись в стратосферу и оттуда ринуться вниз, и закружить над головою Титуса по сужающейся спирали, и, как воздушная гончая, вернуться в черный дворец.