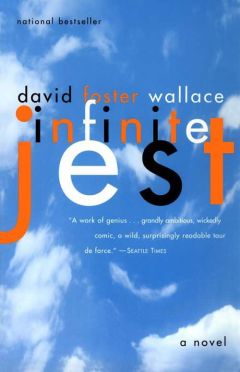Он никогда еще так не психовал в ожидании прихода женщины, которую не хотел видеть. Он отлично помнил последнюю женщину, которую вовлекал в свой очередной финальный отпуск с марихуаной и опущенными жалюзи. Она занималась чем-то, что называется «апроприация», на деле это означало, что она копирует и приукрашивает чужие картины и затем продает их в престижных галереях на Мальборо-стрит. У нее был свой «манифест художника», содержащий радикально-феминистские идеи. Он согласился взять одну из ее картин, из тех, что поменьше размером. Сейчас эта картина занимала полстены над кроватью и изображала знаменитую киноактрису, имя которой ему всегда было трудно вспомнить, и менее знаменитого киноактера, которые сплелись в объятиях в сцене из старого известного фильма, романтической сцене, скопированной из учебника кино, в несколько раз увеличенной и куда более высокопарной, и расписанной непристойностями ярко-красными буквами. Художница была сексуальна, но не красива, в то время как та женщина, которую он ждал сейчас (хоть и не хотел ее видеть), психуя, была красива, ее окружал сухой, увядающий кембриджский дух, благодаря которому она выглядела красиво, но не сексуально. Он убедил художницу, что раньше он сидел на спидах, сказал, торчал на внутривенном гидрохлориде метамфетамина[8], и даже описал омерзительный вкус гидрохлорида, который появляется во рту сразу же после введения дозы. Он хорошо изучил этот вопрос. Он убедил художницу, что марихуана помогает ему не сорваться и не перейти на более жесткую наркоту, с которой у него действительно есть проблемы, поэтому если он чересчур психует из-за травки, которую она пообещала достать, то это только потому, что он героически сражается с гораздо более мрачными и глубокими потребностями и нуждается в ее помощи. Он точно не помнил, когда и в какой форме выдал ей все это. Не то что бы он прям вот так сел напротив нее и нагло врал в лицо, нет, он скорее создал легенду, которую холил и лелеял, и позволил ей обрести собственную жизнь. Он снова увидел целиком насекомое. Оно сидело на полке рядом с цифровым эквалайзером. На самом деле насекомое, возможно, и не уползало в щелку в балке. Возможно, он просто не замечал его, или освещение из двух окон изменилось, а может, дело в визуальном контексте. Балка выпирала из стены и представляла собой треугольник из неотшлифованной стали с пазами для полок. На металлических полках стоял музыкальный центр, они были покрашены в темный индустриальный зеленый цвет и вообще-то предназначались для хранения консервов. Дополнительные кухонные полки, вот их предназначение. Насекомое в темном, блестящем панцире сидело неподвижно, словно копило силы, оно было похоже на корпус автомобиля, из которого на время извлекли двигатель. У него был темный, блестящий панцирь и усики, которые торчали, но не двигались. Эрдеди захотел в туалет. Последняя весточка от художницы, с которой у него был секс и которая в процессе соития распыляла что-то вроде парфюма из пульверизатора, который сжимала в левой руке, пока лежала под Эрдеди, издавая широкий диапазон звуков и распыляя парфюм в воздухе так, что он (Эрдеди) чувствовал, как холодный туман оседает на спину и плечи, ощущал прохладу и отвращение, - так вот, последней весточкой от нее, после того как он начал прятаться от нее с марихуаной, которую она же ему и подогнала, была присланная по почте открытка со стилизованным фото с изображением коврика из грубой пластиковой травы с надписью «Добро пожаловать» и рядом вторым – хвастливым – фото художницы в ее галерее Бэк Бэй, и между двумя этими фотографиями стоял знак неравенства, ну, то есть знак равенства, перечеркнутый диагональной чертой, а так же непристойное слово, которое, как он предположил, адресовалось ему, написанное прописными буквами красным карандашом внизу открытки со множеством восклицательных знаков. Она чувствовала себя оскорбленной, ведь он сперва встречался с ней ежедневно на протяжении десяти дней, а потом, когда она наконец добыла 50 грамм генетически модифицированной гидропонной марихуаны, сказал, что она спасла ему жизнь и что он благодарен, и что друзья, которым он обещал достать дури, тоже благодарны, и что теперь ей придется уйти, потому что у него назначена встреча, и ему надо отчаливать, но он обязательно, позвонит ей сегодня же, чуть позже, и они влажно поцеловались, и она сказала, что буквально чувствует, как его сердце бьется под пиджаком, и уехала в своей ржавой машине без глушителя, и он вышел на улицу и отогнал свою машину в подземный гараж в нескольких кварталах от дома, и прибежал назад, закрыл чистые жалюзи и задернул шторы, и сменил сообщение на автоответчике на то, в котором говорил о форс-мажоре и об отъезде из города, и после этого закрыл жалюзи в спальне и достал новенький розовый бонг из пакета из «Богартса», и исчез на три дня, и проигнорировал больше двадцати голосовых сообщений, протоколов и и-мейлов, в которых люди выражали озабоченность по поводу записи на его автоответчике, и так ей и не позвонил. Он надеялся, что она подумает, будто он снова перешел на гидрохлорид метамфетамина и просто не хочет, чтобы она видела, как он скатывается в ад химической зависимости. На самом деле он не позвонил ей потому, что опять решил, будто эти 50 грамм смолянистой дури, настолько забористой, что на второй день у него началась паническая атака, такая сильная и парализующая, что пришлось мочиться в памятную керамическую кружку с эмблемой Университета Тафтса, так сильно он боялся покинуть спальню, - так вот, он решил, что эти 50 грамм будут его последней дозой, и, покончив с ними, он полностью разорвет все связи со всеми возможными будущими источниками соблазна, естественно, включая художницу, которая принесла дурь ровно тогда, когда обещала, насколько он помнил. С улицы послышался грохот опустошаемого в сухопутную баржу EWD мусорного контейнера. Стыд из-за того, что она со своей стороны могла принять за типичное низкое фаллоцентрическое отношение к ней, только помогал ему ее избегать. Ну, не совсем стыд. Скорее ему было некомфортно думать об этом. Ему пришлось дважды стирать постельное белье, чтобы избавиться от запаха ее парфюма. Он направился в туалет, прикладывая все усилия, чтобы не смотреть ни на насекомое, сидящее на полке слева, ни на телефонную консоль на лакированном рабочем столе справа. Он старался не трогать ни то, ни другое. Где эта женщина, что обещала прийти? Новый бонг в богартсовском пакете был оранжевого цвета, а значит, что он что-то перепутал, когда думал на предыдущий бонг. Он был насыщенного осеннего оранжевого цвета, который приобретал оттенки цитрусового, когда на бонг падал послеполуденный свет из окна над кухонной раковиной. Мундштук и чаша бонга были изготовлены из неотшлифованной нержавеющей стали, зернистой и некрасивой. Высота бонга – полметра, основание покрыто мягкой фальшивой замшей. Оранжевый пластик был толстый, на трубке, с противоположной стороны мундштука, было отверстие, неровное и очень грубое - по краям торчали острые куски пластика, как осколки, от которых большому пальцу Эрдеди в процессе курения будет больно, что, впрочем, он тоже решил считать частью самоистязания, которое он устроит себе, когда принесет дурь и уйдет та женщина. Он оставил дверь в ванную открытой, чтобы услышать, если вдруг зазвонит телефон или домофон его кондоминиума. В ванной к горлу у него внезапно подступил ком, и он громко заплакал, рыдания его, впрочем, резко прекратились через две-три секунды, и больше он не мог выдавить ни слезинки. Прошло уже больше четырех часов с того момента, когда обещала прийти женщина. Он был в ванной или в кресле, рядом с окном и с телефонной консолью, и с насекомым, и с окном, из которого на пол падал прямоугольник света, когда только начал ждать? Свет из окна падал под все более острым углом. Прямоугольник превратился в параллелограмм. Свет из юго-западного окна был прямой и начинал краснеть. Чуть ранее он думал, что ему нужно в туалет, но в туалете у него ничего не получилось. Он попытался вставить всю кучу картриджей с фильмами в дисковод, затем включил огромный телепьютер в спальне. В зеркале над телепьютером он видел фрагмент картины художницы. Он прицелился пультом в телепьютер так, словно это оружие, и убавил звук до конца. Он сел на край кровати и, уперев локти в колени, стал просматривать картриджи. Каждый картридж загружался в дисковод и там начинал по-насекомому скрипеть и жужжать, пока Эрдеди их просматривал. Но даже телепьютер не помогал ему отвлечься, потому что он был не способен задержать свое внимание на одном развлечении дольше чем на несколько секунд. Как только он понимал, что за фильм на картридже, его охватывало беспокойство, что на другом картридже есть что-то интересней. Он осознал, что у него будет еще уйма времени, чтобы насладиться всеми картриджами, и еще, подумав, понял, что эта его боязнь упустить нечто более развлекательное не имеет никакого смысла. Экран висел на стене, размером почти с половину большой картины художницы-феминистки. Какое-то время он щелкал пультом, просматривая картриджи. Во время беспокойного просмотра зазвонил телефон. Он вскочил на ноги и был уже рядом с консолью раньше, чем успел замолчать первый звонок, его переполняло то ли волнение, то ли облегчение, в руке он все еще сжимал пульт от телепьютера; но оказалось, что звонит всего лишь друг и коллега, и когда он понял, что голос на том конце провода не принадлежит той женщине, которая обещала принести ему то, что он хотел скурить и тем самым изгнать из своей жизни навсегда, от разочарования его чуть не стошнило; теперь, когда в крови светился и звенел ошибочно впрыснутый адреналин, он повесил трубку (чтобы освободить линию для женщины) так быстро, что был уверен - коллега решил, что либо Эрдеди на него за что-то злится, либо просто грубый. Еще больше его расстроило, что он так поздно вечером ответил на звонок, несмотря на то, что до этого специально оставил запись на автоответчике, в которой сообщал, что у него форс-мажор и в ближайшее время он будет недоступен, как раз на случай если коллега позвонит после того, как придет и уйдет женщина, и он задернет все шторы и окунется в марихуановый угар, и он стоял у телефонной консоли и пытался решить, стоит ли из-за риска, что ему опять позвонит коллега или кто-нибудь еще из агентства, поменять запись на автоответчике на новую, по которой он уезжает из-за форс-мажора сегодня вечером, а не днем, но потом решил, что раз уж женщина точно обещала прийти, то лучше оставить запись как есть, ведь это будет означать, что он верит ей, и эта его вера каким-то образом ее обещание усилит. Сухопутная баржа EWD тем временем опустошала баки дальше по улице. Эрдеди вернулся в кресло рядом с окном. В спальне все еще работали дисковод и телепьютер, и он видел сквозь дверной проем, как свет и мерцание экрана высокой четкости, меняла цвета, и некоторое время Эрдеди убивал время, угадывая по изменению цветовой гаммы и интенсивности света, какие именно сцены сейчас на невидимом экране. Кресло стояло спиной к окну. О том, чтобы почитать, ожидая марихуану, не могло быть и речи. Он подумал насчет мастурбации, но не стал. Он не столько отверг идею, сколько просто не отреагировал, и наблюдал, как она уплывает. Он подумал в общем о желаниях и идеях, за которыми наблюдал, но которым не следовал, задумался, как импульсы истощаются без выражения, иссыхают и сухо уплывают прочь, и на каком-то уровне почувствовал, что это как-то связано с ним, его обстоятельствами и тем, что – если этот изматывающий финальный угар, на который он решился, никак не решит проблему – можно смело называть его проблемой; но он не успел даже начать обдумывать, как этот образ – обезвоженные мысли-импульсы, уплывающие прочь, - связаны то ли с ним, то ли с тем насекомым, которое уползло обратно в щелку в наклонной балке, потому что в этот самый момент телефон и домофон зазвонили одновременно, и как же громко, мучительно и резко ворвались они сквозь мелкое отверстие в огромный шар цветастой тишины, в которой сидел и ждал он, и он бросился сперва к телефонной консоли, потом – к домофонному модулю, потом, подчиняясь импульсу, снова в сторону телефона, потом попробовал каким-то образом броситься одновременно и туда, и туда, и так и замер с раздвинутыми ногами, раскинутыми руками, словно ловил что-то большое, распятый, погребенный между двумя звуками, без единой мысли в голове.