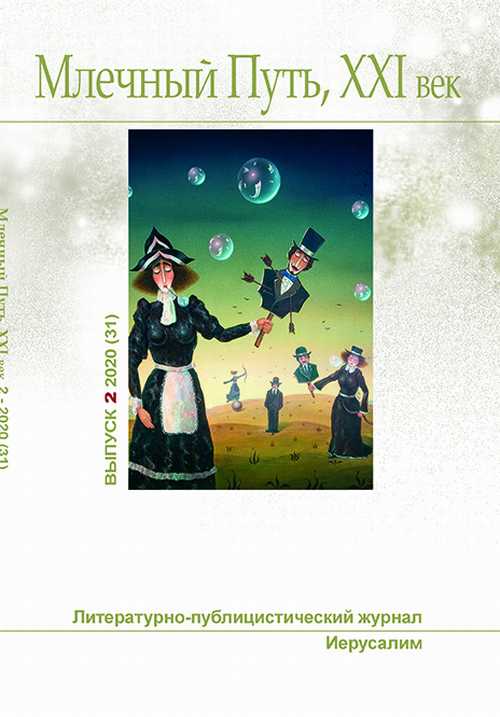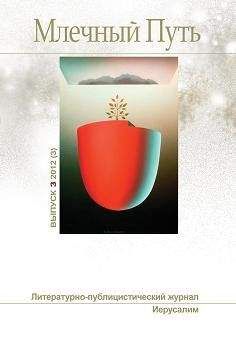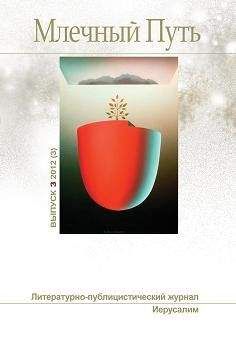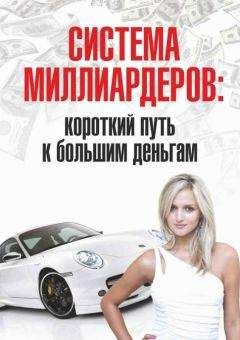мисс Бохен приготовила две чашки эспрессо, одну поставила перед Розенфельдом, с другой отошла к окну и стала, отпивая глоток за глотком, смотреть в наступившую ночь.
Кофе оказался великолепным. Тишина - ждущей. Женщина - давно знакомой. Сто лет. Мысль, воображение так же подвержены действию принципа относительности, как и реальные частицы, для которых движение с субсветовой скоростью означает сокращение времени во много раз. Миг - и век. Если мысль летит так, что сознанию за ней не угнаться, если отпустить воображение в свободный полет, то пять минут знакомства могут обернуться в сознании столетней дружбой. Или столетней враждой - бывает, наверно, и так.
- Почему доктор Бохен... Джерри... был кремирован? - спросил Розенфельд. Столетнее знакомство позволяло задать любой вопрос. Получасовое непременно закончилось бы удивленным или даже неприязненным взглядом и ответным вопросом: "Почему вы спрашиваете?"
Мисс Бохен ответила ночи, прикорнувшей за оконным стеклом, и каплям нового дождя, медленно стекавшим с невидимого неба на невидимую землю:
- Не знаю. - И после паузы, которую Розенфельд не решился нарушить новым вопросом: - Мне сообщили, что Джерри... и я вылетела первым же рейсом. Погода была плохая, самолет, вместо Принстона, приземлился в Филадельфии, пришлось несколько часов ждать, пока пройдет ураган - "Роксана", слышали? - и Принстон принял нас только на следующую ночь. Ожидая в Филадельфии, я несколько раз говорила с миссис Джуннар, секретарем института, спрашивала, на когда назначены похороны, была уверена, что успею. "Мне ничего неизвестно, - отвечала миссис Джуннар. - Как только узнаю, а мне, конечно, все будет известно в первую очередь, немедленно вас проинформирую". Когда я прилетела и встречавший меня доктор Сперлинг сообщил, что Джерри уже... Я просто не поняла. Переспросила. Да, уже. Почему ничего не сказали мне? Почему не подождали?
Она обернулась - ночь ей была больше не нужна, ей не нужен был посредник, чтобы говорить с Розенфельдом, она перешла барьер, который ей трудно было преодолеть, он это понял и подвинулся на диванчике, освободив для нее место рядом с собой.
Мисс Бохен села, поставила пустую чашку не на стол, а себе на колени, и Розенфельд только сейчас разглядел, что мисс Бохен не носила траур - платье был багряного цвета, плотно облегало фигуру; так, наверно, женщины приезжают в театр, в оперу. Раньше он не видел, сознание не фиксировало одежду. Он видел лицо, взгляд, уши, затылок, когда она повернулась спиной. Руки, ладони, пальцы... А одежда... Человек, подумал он, воспринимает мир не таким, каков он на самом деле, а таким, каким показывает мир мозг, переработав информацию. Интересно, каким увидела его она?
- У меня не нашлось ни одного платья, которое можно было бы назвать траурным, - сказала она, будто прочитав (или действительно прочитав?) мысли, даже не мысли, а ощущения Розенфельда. - И я надела то, которое очень нравилось Джерри. Он говорил...
Она обнимала обеими ладонями пустую, но, наверно, еще теплую чашку, а может, сама ее и согревала. И не могла выговорить определенные слова.
Розенфельд эти слова знал. Вспомнил, хотя помнить не мог. "Ты в этом платье, как факел, - говорил Джерри. - Ты свет, ты сама жизнь".
- Наверно, так, - сказал Розенфельд самому себе.
- Да, - подтвердила мисс Бохен и поставила, наконец, чашку на стол. Чашка мгновенно остыла и стала похожа на ледяную, не хватало только сосульки, свисавшей с края.
У Розенфельда было много вопросов, старых и новых. Но он понимал, что ничего спрашивать не будет. Она расскажет сама, а если промолчит, то ответы он не получит никогда.
- Меня прямо из аэропорта отвезли в крематорий на кладбище. Я спрашивала: "Почему не дождались меня?" Несколько раз. "Так было нужно", - говорили мне. Я не понимала. Было в этом что-то совсем неправильное. Я пошла в полицию. Задала инспектору... Ричардсон его фамилия. Очень обстоятельный и вежливый человек. Я спросила: "Как же так? Почему?" Он заглянул в компьютер, позвонил в клинику, поговорил с хирургом, попросил прислать эпикриз. Через минуту получил и прочитал. Показал мне. Там было много медицинских терминов, но главное понятно: естественная смерть в результате повторного обширного инфаркта миокарда. Сделано все возможное... "Вы хотите подать жалобу на клинику? Вы можете это сделать, но хочу предупредить: это бесперспективно, мисс Бохен. Это будет стоить вам денег, времени и здоровья, но решать вам". Да, но я только хотела знать, почему... На второй день после приезда со мной никто не хотел разговаривать. Все меня сторонились. То есть разговаривали, конечно, выслушивали в который раз мой единственный вопрос... Но я видела и понимала: никто меня не слышит, произносят слова сострадания, а в глазах пусто, говорят, а думают о другом. Я здесь третий день, доктор Розенфельд, брат... ушел...
Даже это простое слово далось с таким трудом, что ей пришлось перевести дыхание, ладони сжались в кулаки, плечи опустились, Розенфельд придвинулся ближе, движение было инстинктивным, и он, пробормотав "извините", хотел отодвинуться, но мисс Бохен положила ладонь на его руку, и он замер, ощущая одновременно неудобство, тепло, смущение и что-то еще, чему он не мог, да и не старался подобрать название.
- Брат ушел, - повторила она с усилием, заставляя себя, - в ночь на понедельник, я прилетела почти через сутки, а его уже успели... Просто взяли и сожгли человека, будто торопились скрыть что-то...
Что?
Он понимал ее. Он ей сочувствовал. Как поступил бы он сам в такой ситуации? Подождал бы.
И поведение профессора Ставракоса. Все правильно, выдержано и спокойно, но недовольство от разговора так и не отпустило Розенфельда. И записка, смятый лист, лежавший среди других бумаг, - сиротливый и никому не нужный.
Он ничего здесь больше не узнает. Никто не станет с ним разговаривать, как никто не захотел говорить с мисс Бохен.
И он задал последний вопрос, ответ на который и так знал. Получив ожидаемый ответ, он встанет, попрощается и уйдет.
- Ваш брат... У него было здоровое сердце? Ничто не предвещало...
Заканчивать фразу не было необходимости. Мисс Бохен покачала головой.
- На здоровье Джерри не жаловался. Только...
- Что? - все-таки переспросил Розенфельд, потому что мисс Бохен закончила фразу, проговорив ее мысленно. Он это видел. Можно произнести фразу с закрытыми, даже плотно сжатыми губами, но по движению мышц лица, выражению глаз, по тысяче мелких признаков, которые Розенфельд с грехом пополам, но все-таки научился различать за годы работы в полиции, можно было догадаться, что нечто сказано, но, конечно,