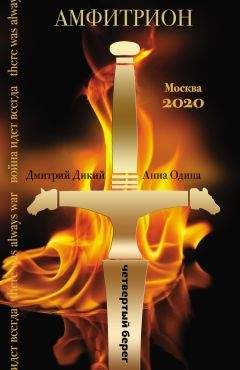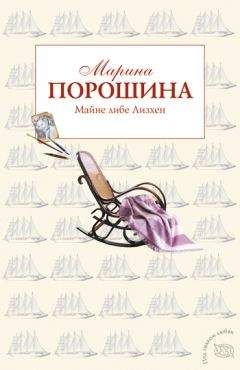Неделя пролетела, и наступило 31 декабря. Митя позвонил отцу и матери в Америку, в полночь переговорил с деловыми партнерами, которые ожидали от него поздравлений, задумчиво кивая, прослушал обращение президента Одина к согражданам, чокнулся с Петлом яблочным соком, капнул Рагнарёку в блюдце с молоком валерианы и через четверть часа уложил набегавшегося мальчика в постель. Потом он сел перед открытым пианино и, закурив, не стал думать. Что год грядущий нам готовит? Какая разница. Будет день… будет пицца.
* * *
И тут Митя услышал тихое мурлыканье.
Мы должны кое-что пояснить. Дело в том, что симбиоз Мити и черно-белого кота сложился вопреки массе обстоятельств. Вы скажете, так часто получается с бесхозными кошками, и будете правы, но все-таки для того, чтобы бесхозная кошка нашла приют в человеческом доме, надо, чтобы хозяева этого дома хотя бы теоретически принадлежали к обширному племени кошатников. Это славное братство в разные времена включало в себя самых блестящих представителей: от кардинала Ришелье (он, в кулаке сжавший Европу, в своем Пале Кардиналь держал десятки кошек) до страдальческого мачо Эрнеста Хемингуэя (за описанием многочисленных котов которого мы отправляем читателя в роман «Острова в океане»). А вот Митя, в отличие от великого кардинала и нобелевского лауреата по литературе, был равнодушен к домашним животным в целом и к кошачьим в частности. Он мог, конечно, потрепать за ухом соседского бобтейла или вежливо выслушать рассказ знакомой о том, что учинила вчера ее сиамка, но сам не хотел никого, кроме Мити (на которого и так уходили все силы). И хоть мы уже писали о том, как бело-черный, словно инь – ян, дрожащий от истощения кот вошел к Мите в дом, чуть ли не высадив лапой дверь, мы не упомянули, что с появлением в жизни этого существа Митя не стал большим кошатником, чем был. Рагнарёк исполнял функции не кота, а элементаля, служил хранителем Митиного отсутствующего очага. До такой степени, пожалуй, что именно он решал, кому позволено расписывать ткань дома своими узорами, а кому – нет. Алену он признал, Петла, по-видимому, счел даже важнее Мити, при явлении Заказчика превратился в заколдованную египетскую мумию кошки-солдата, а Олимпиаду Владиславовну едва отличал от стены.
Все это мы так упорно уточняем вот почему: Рагнарёк был молчалив, как Настоящий Мужчина™. Он был собран, без слов красноречив и самостоятелен. Он никогда не мурлыкал, не издавал возмущенных мявов и даже в страшную ночь покушения разбудил Митю молча. Поэтому-то в Новый год, аккурат после того, как одиноко пробили дедовы часы с маятником, Митя подскочил, услышав:
– …раскаленным шаром. И нага. Потому что была, м-м-м… мексиканской кошкой. Теперь скажу так. Вокруг кольцом обращался Эзымайл. Но и… как это… Не мог достичь. Потому что хвост, а это натурально, был намертво прикреплен ко лбу него. Эзымайл уже тогда только имел один глаз. Но глаз горел звездой. Поэтому освещал пустоту. Это натурально. Когда же взгляд возвращался к Паркее, по голой коже нее ходили волны. Как объяснить? Потому что она чувствовала взгляд. Горела!
Рассказчик – видимо, не совсем в ладах с местоимениями – помолчал, собираясь с силами.
– Теперь скажу так, м-м-м-м… Пылала она, как мак. Хотя и не было там жизни, но была только вечная любовь, а это натурально она… которая сильнее, чем жизнь.
Тут Митя догадался включить омни на запись, по-прежнему не решаясь встать, чтобы не скрипнуть половицей, и стараясь дышать через раз. Дыхание же Петла показывало, что он не спит и, затаив дыхание, слушает. Рассказчик (это явно был кот) взволнованно продолжал, периодически сбиваясь на странные звездные ругательства:
– И тогда Предвечный Молод (sak haa-badaş[68]!) распространял черные лапы его, они, что… как сказать, Молочный? Большие от низа и до верха миров. Охватывал всюдную жизнь и нежизнь тоже, выдвигал когти и… разговаривал: «Да станут дети Мои везде!». На Паркею из ничего тогда падали kșkș него – сверху, снизу падали и с боков, и шипели, и кричали от боли, потому что Паркея горела! Но каждая, м-м-м… mwia, mwia-harann… из них вбирала часть жара, жизни Паркеи! Все охлаждали праматерь, сами загоравшись ярким пламенем, охвачивали ненавистью к пустому холоду вселенной! – Тут рассказчик, как ни старался, не смог удержаться от комментария: – М-м-м-м… Мя-а-а-а-а!! Волшебный.
Митя неуютно поежился, но все-таки не мог не отметить, что кошачья космогония успела почерпнуть кое-какие термины в человечьем понятийном аппарате.
– Теперь скажу так, а что несчастный Эзымайл? Каково наблюдал охлаждающий дождь, первых kșkș во тьме и, это, что так возмущает, умирание возлюбленной Паркеи?
– Сто зе, сто зе Изымай? – еле слышно прошелестел загипнотизированный коварным фамильяром Пётл.
– О-оо, я скажу теперь! – чуть повысил голос кот-баюн. – Боль и страдание имел, великие и весьма, весьма… круглые! Тогда понатужился, mwia harann… распрямлял позвоночник, дотягивался до хвоста и… И… м-м-м… МЯРГХ ПЕРЕГРЫЗАЛ!!! И рухал вниз, волшебный, рухал.
Воцарилось потрясенное молчание. Слушатели переваривали.
– И сто? – помолчав, прошептал Пётл.
– Сто? Скажу тебе, Молочный. Пока рухал, на Паркее потухло. Паркея погибла. Пока летел. По истечении полета опускался в великое озеро, в Ванну. Плыл, шел. Где-то грыз, это натурально, кусал, бежал. Так. Долго, долго делал. Лбом двигал мир от себя.
Рагнарёк прилично помолчал. За это время Митя успел с садистским вывертом ущипнуть себя за ногу, чуть не вскрикнуть, зажать рот рукавом, потерять равновесие, чуть не упасть и осознать, наконец, что кот насторожился. Но Рагнарёк был слишком горд, чтобы в такую ночь стесняться разоблачения. Через зеркало в прихожей Митя увидел, как одно черное ухо повернулось в сторону его комнаты, послушало и вернулось назад, на место.
– Паркея погибла. Пока, это натурально, временно существует без жизни, так как дала жизнь всем… тем. Эзымайл с тех пор так бродит. Сердце ярится негасимым гневом на Предвечного Молода… кто виноват. Но и на всех kșkș, кто получил жизнь ценой смерти, кто не виноват. Аили нет. Ходит, да, так скажу, ходит до сих пор, ходит, смотрит. Работает, – настойчиво повторил Рагнарёк и пошевелил черным кончиком хвоста. Митя вспомнил, что хвост у него действительно какой-то подозрительно короткий – шерсть маскировала недостаток длины. Да и один глаз порой вел себя как-то странно, как будто гулял сам по себе… Рагнарёк любил его закрывать.
– А юди? – спросил рациональный Пётл.
Рагнарёк пренебрежительно махнул лапой, и Митя наконец подумал, что все-таки сошел с ума.
– Потом были, Молочный. Или до. Неважно.