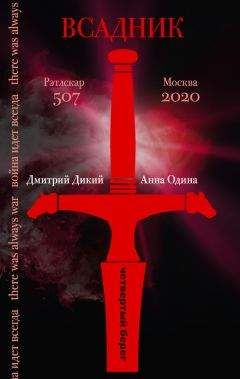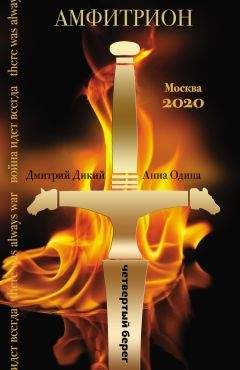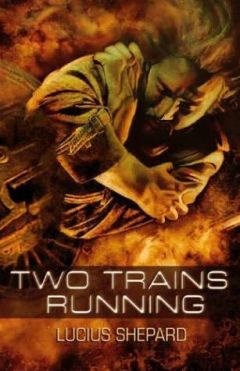Паркея опять началась. Она горела. Эзымайл приложил хвост ко лбу и стал вращаться вокруг нее.
– Привет, – сказала Паркея ласково.
– Привет, – сказал Эзымайл. – Погладь кота.
Я родился и вырос в Москве. Здесь ржаная осень.
Тут и хлеба дадут, и по морде, – и всё без спроса;
а Василий, Ивану макушкой едва ли в пояс,
отправляет меньшому гостинец – соколий поезд.
Здесь из старого есть лишь река; как гимнастки лента
она вьется, холодная, узкая (суть memento
не пришедшего к этим далеким чертогам моря).
Две сестры по ней шлют корабли; и она не спорит.
Император разгневанный топчет родные судна;
там, где он, – тишина и фонтан, а вокруг всё людно:
от святого бассейна мосты переводят к раю;
от Нормандии Неман бульвары влекут к трамваю…
За рулем его нет комсомолки. Другие вещи
отрезают нам головы, впрочем, еще похлеще:
скажем, время бесстрастное красным октябрьским краем
отсекает тепло и светло. Мы тогда бросаем
якорь в желтых кафе, в магазинах с чужой одеждой
(здесь, конечно, сам Будда велел рифмовать с надеждой);
но не любим цветное, а любим гореть поярче.
Наш срок службы недолог. Пройти от нуля до старче
лет за двадцать возьмется любой, кто в зрачках вселенных
видит только рубли на фасадах Кремля нетленных.
Как ни странно, и здесь есть Васильевский! хоть не остров —
и не надо, пожалуйста, делать его погостом.
Что сказать о Москве? Матерятся, увы, до боли.
Черт-те что здесь зимой: на дороги насыплют соли —
и ботинкам ***, всё уныло, любовь неброска.
А вот жили б по-пушкински, было б не так и бродско.
Из-под воды я вижу, как птицы
Свободной стрелой рассекают границы,
Движутся волны и мокрые ветры
Швыряют под киль кораблям километры
Я отчим Сан-Марко, палаццо Дукале,
Я тень под гондолой на каждом канале,
Я маска, с костюмом плывущая в паре,
Я дух изначальный, – я демон Страттари.
Минуют века, я же, скованный клятвой
Иду по затерянным…
С князьями волшбы, но их тайные знанья
Не могут уменьшить всей суммы страданья.
Шалью, шерстя`ною шалью,
Оренбургским пуховым платком,
Бесконечною синею далью
Или снежным безумным комком
Прокачусь, упаду, расстелюсь,
Отражаясь в воде облаков,
Заведу себя в дверь и вернусь
Отсыпаться под алый альков.
Кружевами сплетая ручьи,
Камнепадом встречая кометы,
Я возьму себе косы ничьи,
Рыбам дам леденцы и конфеты.
И бобра, и гепарда уважить мне
Против шерсти велит рука,
А в утреннем синем и теплом костре
Я зажарю конька-горбунка.
Раскрутившись пращою на самом дне,
Сколотив свой убогий плот,
Я отправлюсь, увидев слезы в окне,
Разогнав нерадивый скот.
Как часам, отекающим с края стола
И идущим быстрее мгновений,
Мне сказали «хула» и сказали «хвала»,
Подарив упаковку сомнений.
Их надув, я взлетаю к шири небес,
Отворяю великий люк.
Я сказал: «Я в хорошее место слез!» —
Дорубая сидячий сук.
Бодритесь, милая; вам это удается,
Хоть вы печальны, и неровен сердца стук,
И кажется, он вам в лицо смеется,
И мысли обгоняют пальцы рук.
Старайтесь, милая, себе не признаваться,
Что ваши карты вышли все не в масть,
Ведь если так, за них не надо браться,
И проще сразу сдаться и пропасть.
Взгляните, милая, в часах песку осталось
Немного. Ваша исповедь проста.
Но вся та мишура, что вам давалась
С такою легкостью – теперь вам жжет уста.
Простите, милая, но вам платить по счету.
Никто иной вас обуздать не смог —
Но здесь вам не уступят ни на йоту…
Молитесь, милая. Пусть вас услышит Бог.
С Божьей помощью прошла ночная стража;
Распахнули окна в тлеющее небо —
Прилетели все, мне кажется, я даже
Видел тех, кто никогда счастливым не был.
Одевались кто на свадьбу, кто на сорок,
Запрягали белопенные кареты,
Настоявши, пили горькое из корок;
На прощания топили амулеты.
Наконец собрались, выкурили наспех,
Свет гасили, продевали в руки свечи.
Кто-то бледный приглашал расстаться в масках,
Потому что, мол, глаза давали течи.
И, дождавшись, пока солнце разбросает
По волнам свои расплавленные блики,
Убедились в том, что всё. Ушли. Светает.
В волглых листьях слышал пасмурные крики.
Сейчас ночь, и опять
Под ее теплым пледом
Мне пришлось разнимать
И врага, и соседа,
Хотя руки устали,
И ноги не ждут,
Мои пальцы сломались,
А волосы жгут.
Но внезапно вдали,
На высокой горе
Я увидел прекрасный
Цветок каркадэ.
Если б был я моложе
Иль просто другим,
То цветок этот тотчас же
Стал бы моим.
А пока – а пока,
Хотя ноша легка,
Я усну у костра,
Я дождусь до утра.
Вот теперь, поутру,
Когда кости срослись,
Каркадэ я сорву
И стремглав ринусь вниз.
Каркадэ будет мой!
Каркадэ станет мной!
Станет мной каркадэ!..
Фрегаты раздули свои паруса,
И так как уж полдень, то все чудеса
Отложены вдоль по времённой оси,
Коль хочешь ответить, сначала спроси.
На острове диком колючки в песке
Пожалуй, заполнят все небо в тоске,
И хоть будет мало, беги, не беги,
Всё в море холодном потонут шаги.
Сколочены звонко металл и доска,
Вода для фарватера стала узка,
От соли замерзли в гортани слова,
Дописана ветром вторая глава.
Свивайте сосновые мачты в клубок,
Смешайте штурвалы в единый комок,
Я здесь и Матфей, и, наверно, Лука,
Станцуй со стихией на водах, рука.
She’s still unchanged – her every dress
Is just a thiefly change of hue,
A whim of fashion… an excess
Mistaken often for a cue —
As any creature quick of mind
And sharp of wicked, lustful sense —
She likes to trace, delights to find
Offenders, and to fell offence.
Indeed, her craft is to arouse
A rightful wrath in former friends,
To welcome them as ready spouse
And savour their disgraceful ends —
None other boasts a track of crime
More ghastly than The Lady Time.
Жизнь для нас как-то слишком легка,
Вещи в руках горят. Слишком быстро
Застилают далекие сонные облака
Чистый лоб нестареющего магистра.
По итогам всех встреч заключения нет.
Кто-то оттачивает слог, кто-то уши;
Где-то экономка приглушит свет.
Все-таки магистр связывает души
Единой логикой мерцающей реки.
Там на город опускается ярость.
Выходят, в шеренги строятся старики,
Хрупкими руками толкают старость.
Вещи продолжают восходить по спирали.
Магистр утомлен. Но это единственный путь.
В этом воздухе многие так же устали.
Он один не хочет уснуть.