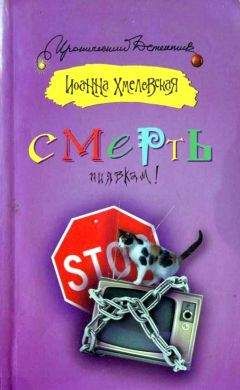Покинем этот круг. Нас ждет второй, где адский, ветер гонит, и корежит, и тяжко мучит душ несчастных рой, стенающих во мраке.
Так за что же их бросили сюда? В чем их вина? Они любили. Милостивый Боже! Зов плоти – грех? Возьми их, Сатана, теперь твои Паола и Франческа. Карай их блуд! Но как их страсть сильна, как полны очи трепетного блеска…
Каких же сладострастников поместил туда Данте? Семирамиду и Клеопатру, Париса и – Бог весть за что – безупречного рыцаря Тристана. Живи поэт позже, он отправил бы в круг второй Каренину с Вронским, Эмму с Леоном, да и Федора Ивановича Тютчева с Денисьевой не пощадил бы.
Быть может, ниже, в третьем круге, найдем мы справедливость?
Куда! Кто там гниет под вечным дождем, тяжким градом, оскальзывается на жидкой пелене гноя? Насильники и убийцы? Грабители и растлители малолетних? А вот и нет. Там, в ледяной грязи, ворочаются… любители хорошо поесть. Достойнейшие мужи могли оказаться среди них: Гаргантюа и Портос, Ламме Гудзак и Афанасий Иванович Товстогуб, Петр Петрович Петух и Евгений Дамианидис.
А ты, Велько, ты не украсил бы эту компанию? О, я знаю множество людей, наделенных редкими качествами, которые, после хорошей лыжной прогулки в ожидании электрички извлекают из рюкзака термос с кофе и промасленный пакет, набитый крупными, ладными бутербродами с ветчиной. И модус операнди этих людей в отношении означенных продуктов напоминает действия льва, настигшего антилопу после трех дней погони. Я так и вижу симпатичного Питера (Пьера, Педро, Пьетро, Петю), безмятежно поедающего пудинг (луковый суп, жареную форель, пиццу, горшок щей) и спокойного за свою судьбу, меж тем как судьба подбирается к нему с гнусными намерениями. "У меня свои виды на тебя, Питер,- говорит судьба.- Ты, Пьер, обжора. Чревоугодник. Раб желудка, вот ты кто, Петруччо. Нельзя без омерзения смотреть, как ты жрешь эти пельмени. А потому мокнуть тебе в зловонной жиже до Страшного суда" [Тут Андрис, видимо от волнения, впал в анахронизм. Ну, положим, электричкой он мог назвать какой-нибудь электровагон на магнитной подвеске, снующий туда-сюда по вакуумному тоннелю. Но ветчина, пельмени – мыслимо ли такое непотребство в просвещенный и, как мы выяснили в предыдущей главе, вегетарианский век, славный умеренностью и предпочтительным употреблением в пищу целебных морковных котлеток и чая из чабреца и зверобоя?].
Поехали дальше. Круг четвертый. Скряги и расточители сшибаются стенка на стенку. Мне почему-то жаль и тех и других. Жизнь скупца и так безрадостна: отказываешь себе во всем, куска недоедаешь – и, здрасте, получай в морду. А те, что с широтою и блеском раздают свое добро, вообще мне симпатичны [И мне тоже. А ты, Владимир, разве не испытывал желания послать кому-нибудь в дар караван верблюдов, груженных слоновой костью и благовониями?]. И вдруг – на тебе, пожалуйте в четвертый круг на вечное поселение, со скрягами драться.
Проблеск справедливого воздаяния усматриваю я в круге пятом, где вязнут в болоте гневные. Действительно, согнать всех хамов в одно место, где каждый может хорошо постоять за себя,- удачная мысль. Никто не ограничивает их свирепости. Рви друг друга в клочья ко всеобщему удовольствию. Но дальше – зрелище, ранящее сердце. В огненных могилах шестого круга пылают еретики и атеисты. Среди них Эпикур. А скольким предстоит туда попасть!
Богатейшая коллекция мучеников собрана в круге седьмом. Чтобы привести все это в относительный порядок, пришлось расселить постояльцев по разным зонам. В первой мы, наконец, находим кое-кого из наших подсудимых. Кто там варится в кровавом кипятке? Так это ж Александр Македонский собственной персоной.
Давно пора. Дионисий Сиракузский, злобный тиран. Поделом. Бич Божий Аттила, опустошитель Европы,- туда его. Секст Тарквиний, что вырезал целый город и довел до самоубийства несчастную Лукрецию. В тот же красный бульон швырнул бы Данте многие сотни мерзавцев, в коронах и без, с большим усердием вершивших насилие над ближним. А рядом, в соседней зоне, томятся превращенные в сухие деревья насильники над собою – самоубийцы.
Быть может, та же Лукреция. Увы! Тяготы жизни, потеря любимых, угрызения совести толкают наименее толстокожих из рода человеческого к страшному решению в отчаянной надежде на покой.
Сострадания заслуживают они, не кары! Эх, Алигьери… В третьей, последней, зоне – насильники над Божеством. Вид наказания – экспозиция обнаженного грешника огненному дождю. За богохульство! Не мелочно ли со стороны Всеблагого, Всемогущего, Всевсякого?
Чем глубже мы спускаемся, тем тяжелее, по мысли Данте, грех.
Конечно, не стоит валить в кучу купца, бьющего зеркала в "Яре", старателя в парчовых портянках и нашего с тобой приятеля Мишу, безотказного до такой степени, что, беря у него в долг очередную пятерку, я испытываю стыд охотника, который стреляет по сидящей утке.
В круге восьмом казнятся обманщики – что же, обман гнуснее насилия? Здравый смысл восстает. Обманщики распиханы по рвам и траншеям. Обольстителей и сводников бичуют бесы. Туда каким-то чудом попал Ясон, который, как показало углубленное изучение его жизненного пути, до встречи с Медеей обольстил лемносскую царицу Гипсипилу [Андрису, мне кажется, не хватает тут личной заинтересованности. Его речь становится чересчур холодной, академичной. В самом деле, что ему Ясон? Что нам Ясон? Что нам Дон Жуан и Казакова, которых осудили бы по той же статье? Я холоден к этим виртуозам любви, хотя и признаю, что кнутобоище не для них. Но при мысли о том же Мише, чьи доброта и безотказность распространяются и на женщин, я кричу: "Нет! Долой этот абсурдный закон, предписывающий добряку и красавцу терпеть удары нагаек на своей атлетической спине".]. Мелькают щели с льстецами, влипшими в зловонный кал, продавцами церковных должностей, чьи пятки прижигают черти, прорицателями – скрученными и пораженными немотой. Наказали последних остроумно: повернули лицом к собственной спине и лишили речи. Дескать, непостижимо будущее. Долой прогноз.
Фантасты, знайте, что вас ждет. А вот изо рва ползет запах соснового бора в знойный июльский полдень. То мздоимцы плавают в кипящей смоле. В свинцовых мантиях плетутся лицемеры, топча распятого тремя колами главного из них – Каиафу. Не постигаю, почему причтен сей клирик к лицемерам. Не искренен ли он был, утверждая, что смерть Иисуса убережет от гнева римлян весь народ иудейский? Однако – дальше, дальше, дальше. Вот Одиссей и Диомед, заключенные в огненные оболочки,- приговор военной хитрости. В толпе клеветников, которых треплет лихорадка, раздувает водянка, мучит чесотка, мелькнула обезумевшая от страсти жена Потифара, возведшая напраслину на Иосифа и тем, по капризному решению судьбы, обеспечившая его взлет к славе. В искромсанном теле с зияющим нутром – казнь для зачинщиков раздора – я узнаю Магомета. И покидаю этот круг…